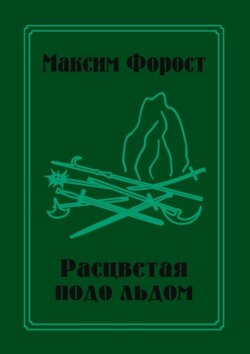Читать книгу Расцветая подо льдом - Максим Форост, Максим Анатольевич Форост - Страница 3
Часть первая
Огнич
Глава I
ОглавлениеТёплый и влажный утренний воздух наполнился звоном кузнечного молота. Звон вырвался из распахнутых дверей кузницы, смешался с деловым говором коневодов, перекрыл всхрапывание лошадей. Звон оборвался – кузнец, наверное, взял клещами подкову и окунул в чан свежесобранного снега.
Странное лето выдалось в этом году в Плоскогорье. Снег, выпавший среди зимы поздно, с приходом весны не растаял, но остался лежать скрипучим настом и мёрзлыми сугробами. Казалось, он пролежит до солнцеворота. Солнце палило с неба, птицы кричали на ветках, почки развернулись в зелёную листву. Одна трава ещё никак не пробьётся из-под искрящего снега.
У ворот кузницы разглядывали молодых коневодов три девицы. Подзагоревшие на первом солнышке личики, заплетённые рыжеватые косы, лёгкие сарафанчики и сапожки, лениво утаптывающие снежок.
– Знаешь, та зелёная лента, что ты у меня видела, так подошла! – сообщала первая, с самой рыжей косой. – Он так и сказал: «Она оттеняет твои волосы». Представляешь? – девчонка наморщила нос и рассмеялась.
– Ой, здорово! – восхитилась самая младшая. – Забава, как я тебе завидую! Слушай, а Миленка говорит, что у неё с парнем кое-что было! – девчонка счастливо покраснела.
– Врёт она! – позавидовала Забава. – Весна на неё действует!
– Весна! – третья девушка хохотнула и досадливо ковырнула сапожком снег. – То-то я смотрю кругом трава зелёная!
– А моя бабушка говорила, что раньше весну кликали.
– Как это? – удивилась младшая.
– Ну, песни пели. Собирались на Велесовом лугу и пели про весну.
– Ух, ты! А давайте споём! – младшая захлопала в ладоши. – А ты какие знаешь?
– Ну, про подснежник, – Забава поморщилась, – её все знают.
– Какую?
– Весной подснежник расцветёт, – она протянула без выражения.
– Не так! – перебила третья. – Это не про подснежник, а про Купаву и Радима:
Весной подснежник расцветёт —
Как сердце от любви.
Расступятся и снег, и лёд —
Зови весну, зови!…
– Ну, вместе! Я одна петь не буду.
– Зови весну, зови!
С весною гости к нам спешат:
Тревога, жар, тоска,
Сомненье, стыд и робкий взгляд —
О как любовь сладка!
О как любовь сладка!
Радим с Купавой будто мир
Собрались известить,
Раз в их крови любовь горит —
Зачем её таить?
Зачем её таить?
– Тихо! – всполошилась третья. – Грач идёт!
– А нам-то что? – тихо проговорила Забава. – Мы просто поём… – она уставилась на темноволосого коневода, подошедшего к кузнице с конём в поводу. – «Любовь во взглядах и словах. Уж назван свадьбы час…» – она осторожно промурлыкала.
– Не пой! – её шёпотом оборвали. – Не пой при нём.
– С чего это? – она заупрямилась.
– Не пой и всё. Он – изгой. При нём это не поют. Он как Радим, понятно?
Три пары любопытных глаз одновременно уставились на пришельца. Грач это почувствовал. Он вдруг втянул голову в плечи и ссутулился. Всей спиной, всей кожей и чёрными – не как у людей – волосами он ощутил, что его разглядывают. Утром, выходя из дому, он загадывал, чтобы в кузнице в этот час никого не оказалось – чтоб ни единой души. Как назло, двор полон народу.
Деловитый говор застыл и тотчас возобновился. Так повелось в посадах и в сёлах, что своих приветствуют, не прекращая разговора, а чужих разглядывают, немедленно замолчав. Хуже, когда не замечают. Грач силился сохранить невозмутимость. Закинул узду на свободную коновязь, заглянул в темноту кузницы. Коневод расплачивался с кузнецом – мельком глянул на Грача, поспешно отвёл глаза и скоро вышел. Грач подождал, но при нём никто не входил в кузницу.
– Бравлин, – позвал он.
Крепкий мужик лет тридцати пяти с волосами соломенного цвета поднял голову:
– А, Цветослав! – запарившийся кузнец обнажил зубы. – Сиверко привёл?
– Сиверко, – Цветослав-Грач заулыбался.
Он завёл жеребчика в станок, потрепал по холке, чтобы не нервничал.
– Ну, как – снег не растаял? – в посаде это сделалось любимой шуткой.
Грач усмехнулся.
– Вот я и думаю: пролежит снег до осени, – Бравлин басил, выбирая инструменты, – а там уж и новый выпадет!
– Зимою не занесёт, так весной затопит, – подыграл Грач.
Кузнец выбрал похожую на зубило обсечку, поднял у Сиверко копыто и резкими движениями отогнул барашки – кончики подковных гвоздей. Удалив гвозди, он снял подкову, осмотрел и погладил рукой копыто, немного потёр рашпилем.
– Молодец, – похвалил Грача, – не запускаешь. А общинных коней редко перековывают. Подошвы так зарастают, что копытный рог хоть клещами откусывай.
– Я стара-аюсь, – протянул Грач и опять ласково похлопал Сиверко.
– Хорошеет жеребчик. Сколько ему уже? – Бравлин взялся за другое копыто.
– Он четырёхлеток.
– О-о-о, боевой жеребец! А ведь его отбраковали, старшему конюшему не понравился окрас. Окрас у него не ценный, – Бравлин поворошил конскую шерсть на боку. – Разве ж это масть? Одна волосинка рыжая, другая – чёрная!
Кузнец разогнулся и отступил в дальний угол к наковальне. Там долго и молча бил, меняя инструменты и подгоняя подковы. После сунул их одну за другой в снег – тот зашипел и изошёл паром.
– Одна волосинка седая, другая – бурая! – понравилось кузнецу. – Сплошная сивка-бурка смесь с кауркой.
Выбрав молоток, кузнец примерился и несколькими косыми ударами вогнал гвозди так, что концы вышли из стенок копыта.
– Глаз – алмаз! – похвалил сам себя. – Правду скажу, Цветослав: я ни одной лошади не заковал.
– Ещё бы! – поддержал Грач.
Заковка – это болезненная для лошади рана. Это когда гвоздь протыкает копытный рог и вонзается в ногу.
– Угу, и засечек не стало, – кузнец загибал кончики гвоздей барашками. – Отучал его, или конь сам отвык?
– Отучал, – Грач был немногословен.
Случается, при дурно поставленном шаге молодая лошадь сама себе ранит ноги подковами или торчащими барашками. Это и называют засечкой.
– Ну, и молодец, всё готово! – Бравлин отложил молоток.
– Сколько с меня?
Бравлин ничего с Грача не брал, но снабжал его заработком. Кузнец загремел полным мешком котелков и чайников:
– Кое-что из утвари. Кому подлудить, кому подлатать. Ещё уздечку заказали. Для важного человека, для конюшего. Уважь меня, поторопись! В неделю осилишь?
Грач пообещал и, простившись, вывел вон Сиверко. Прищурился от искрящего снега. Навьючиваться на виду у всех не хотелось, он вывел жеребчика за ворота – и тут же расстроился.
Девчонки смолкли и уставились на него. Прямо клеймо какое-то: его чёрные волосы. Это чтобы не перепутали, чтобы знали – вот он, тот самый, с хутора, изгнанный, Грач. Так и имя своё позабудешь – кличка приросла. Чего уставились?
Девицы зашептались и прыснули. Одна, что с волосами поярче, зазывно заулыбалась. Сквозь хихиканье он расслышал: «Забава, может, уговорим его…» – «Прекрати… одну он уже уговорил».
Грач вскипел. Сощурив глаза и стиснув зубы, он затягивал последний узел у громыхающего вьюка.
«Трещат, о чём сами не знают. Они малолетками были, когда это случилось», – он вскочил в седло, хотел промчаться перед их носами, разбрызгивая снег копытами, но вместо этого лишь пробормотал «ходь-ходь» и тихонько пустил жеребчика мелкой рысцой.
Лишь когда выехал за околицу, погнал Сиверко вналёт. Раздражение и досада вырвались наружу.
«Ненавижу!» – сорвался он на самого себя. Вот и по ночам снится, будто стоит он голый посреди избы, полной народу, а все делают вид, что ничего не замечают, что всё в порядке, что ничего страшного. – «Ох, ненавижу!» – говорят, это снится слабакам или же снится от чувства вины – огромной, неисправимой. Вину-то он за собой знает.
– Да пошёл же ты! – Грач изо всей силы стегнул жеребца плетью.
Сиверко вздрогнул от неожиданной боли и помчался быстрее. Утоптанный снег выбрызгивал из-под копыт. Дорога бежала вдоль леса. Слева проносились зелёные деревья, меж них мелькало солнце. Встречный ветер охватил Грача и скоро развеял остаток раздражения.
Дорога оборвалась, дойдя до прорубленной в лесу просеки. На краю леса стоял его хутор. Сиверко остановился перед калиткой.
– Вот и молодец, – похвалил Грач, соскакивая на землю.
Соскочив, он увидел, что сжимает ту плетку, которой выместил на жеребчике досаду. Обожгли стыд и раскаяние.
– Прости меня, – сказал он. Сиверко повёл на хозяина глазом. – Не знаю, что на меня нашло. – Сиверко потянулся мордой к плечу хозяина. Грач обнял его за шею. – Ну, пошли, пошли.
На дворе он расседлал Сиверко, завёл в пристроенную к дому конюшню. Проверил подковы, не забились ли в них камешки. Осмотрел в стойле подстилку, не испортилась ли. Досыпал в кормушку сена и собранной с деревьев листвы – другого корма этим летом, может, и не предвидится.
Он думал, не отвести ему ли Сиверко на тебенёвку, не пустить ли на луг или лесную поляну – пусть разгребает снег и достаёт траву. Вон, коневоды свои табуны уже вывели и говорят, что под снегом – сочные травы.
Четыре года назад Грач выторговал у них отнятого от кобылы жеребёнка, неказистого и отбракованного. Сам приучал его к недоуздку, к кормушке, к поводу. Заставлял стоять, когда моют, и поднимать ноги, когда чистят копыта. Теперь-то жеребчик хорош – крепок и статен. Как мучился с ним Грач, корм его прямо с земли, с расстеленной рогожи! Жеребчик храпел и возмущался, тянулся и подгибал ноги, изо всех сил гнул шею. Вот потому-то он гибок и строен.
Жеребёнок был норовистый, тянуть с заездкой не стоило. Он в первый же год оказался в упряжи, а скоро и под седлом. Под всадником еле-еле держал равновесие и всё норовил идти боком да кое-как ставить задние ноги не в след передних, а в сторону.
– Си-иверко, – протянул теперь Грач.
Серо-буро-малиновому жеребчику он дал такое имя, потому что был он чёрен как северная ночь, бел как северный снег и рыж, как огонь в северном очаге. А ещё, чтобы жеребчик был скор, как сиверко – полночный ветер.
Грач прошёл из конюшни в смежные сени. С грохотом вывалил из мешка в угол котелки и чайники. Там же в углу лежали его инструменты. На стене – заготовки кожи для сбруи и упряжи. На верстаке давно валялись чурки и нож для резьбы. Хотя резных игрушек у него не заказывают – он же изгой. У верстака – гончарный круг, а на полках – горшки и чашки.
Это тётя Власта просила его сделать горшки, кажется, для цветов. Они сделаны, обожжены и давно разрисованы.
Он долго жил у Власты, ещё мальчишкой, ещё в старом её доме – в Приречье. Потом подрос, Власта перебралась с ним и с дочерью в слободу – в Залесье. В тот год всё Плоскогорье делилось на тех, кто оставался в посадской общине, и тех, кто выезжал на вольные хлеба в слободу. Через пару лет Цветослав оставил Власту и вернулся в Приречье, в развалившийся дом отца.
Власта никогда не судила его за то, что случилось потом.
Кличка «Грач» накрепко приросла к нему якобы за чёрные волосы. А дело было не в волосах. Его мать Сирина была лесной вилой, а не людской женщиной. Отец привёз её с низовий Пучая-реки. Там, в сёлах, где живут вилы, размещали на постой их полковую сотню. Шептались, будто вила окрутила рекрута так, что ему мир опостылел и жить без неё не мог. «Ведьма!» – все так и звали её здесь, в Приречье. Отца корили: привёз-таки ведьму в людские села. А его, сынишку их, прозвали ведьмёнышем, потом и Грачом, чёрной птицей.
Она умела летать. Нет-нет, при людях, чтобы не смущать, она никогда не летала. Разве что потом, уже без отца, когда сердце её рвалось в облака… Когда её тоже не стало, Власта взяла его к себе. Власта никогда не звала её ведьмой.
Грач встрепенулся и, собираясь к Власте, засуетился. Обернул каждый горшочек холстинкой, вложил их один в другой, перевязал. Вышел тугой узелок. Подхватив его подмышку, выбежал с хутора.
Лесная просека вела его к слободе, она виляла здесь так, будто дорогу выбирали не люди с шагомером, а деревенская лошадь, что обходила с телегой все ухабы, рытвины и густые заросли. Под ногами скрипел снег, свободной рукой Грач отводил от лица зелёные ветки. Странное в этом году лето! Навстречу ему появился из-за перелеска прохожий. Грач, не сбавляя шага, отвернулся, прохожий молча прошёл мимо изгоя.
Чем ближе становилось Залесье, тем больше немел язык и прерывалось дыхание. Так происходило всегда перед тем, как встретиться с Руной. Мерещилось, что за спиной вырастают крылья, а ноги наливаются свинцом. Лес кончился. Когда появились первые дома Залесья, Грач с собой справился. Сейчас он увидит Руну, вон в том переулке, вон через три двора, вот же она.
Руна – это дочь Власты. Она стояла у забора и ловко управлялась с торчащим из сугроба кустарником. Кустарник цвёл. Грач не заметил, какой и какими цветами, но он увидел проворные руки Руны, серую мглу в её глазах и новое платье. Платье настолько сиренево-розовое, что у него ослабел голос.
– Руна, привет, – позвал он как только мог – весело и спокойно.
– Ох, привет, – Руна деловито охнула, подняла голову и откинула со лба прядь волос.
– Заметил твоё новое платье, – выговорил Грач.
– Да ладно, – она отмахнулась, – оно старое. Спасибо, конечно.
Руна стройна, невысока и гибка, как подросток. У неё тёмно-каштановые недлинные волосы и серо-зелёные глаза. Сегодня она чем-то недовольна, поэтому глаза туманятся серой дымкой, а если бы она засмеялась – в них бы засветились золотисто-зеленые искры.
– Я с подарками, – Грач бодренько стал развязывать свой узелок.
– А, это горшки для мамы, – признала Руна. – Спасибо, ей понравятся.
Хотелось-то, чтобы понравилось Рунке. Грач хмыкнул. Он развернул, извлекая на свет первый, самый удачный горшок.
– Смотри какой! Для тебя делал, – Грач в самом деле гордился собой, как мальчишка.
– Спасибо, – Руна вежливо поблагодарила.
Блеснуло стекло, окно в доме отворилось, раздался голос тёти Власты:
– Руна, кто там пришёл?
– Это Цветослав! – откликнулась Руна. – Ма-ам! Горшки заберешь? Цветик принёс.
Власта показалась на крыльце.
– Ой, Цветик, спасибо тебе! – Власта говорила чуть в нос, низковатым голосом. – Ух, ты! Один другого лучше, – похвалила, приблизившись. – Да ты на все руки мастер!
Расставленные на снежку и на солнышке горшочки были вполне недурны собой. Грач снисходительно улыбнулся. Потом понял, что давно пристально смотрит на Руну и никак не может отвернуться от серых с желтизной глаз и длинных ресниц. Почему-то он всегда цепенел, рассматривая её.
– Цвет, я уморила тебя этими горшками? – голос Власты вывел его из оцепенения. – Ты прямо спишь на ходу.
– Нисколько! – он встрепенулся и отступил от забора, якобы собираясь уходить. – Я в знак глубокой привязанности, это подарок вам и… Руне.
– Ой, ну спасибо, я очень рада, – польщено протянула Власта. – Ты нам как родной, – напомнила, – столько лет с нами жил.
Грач вопросительно посмотрел на Власту.
– Мы с твоей матерью были близки, – проговорила Власта. – Сирина мне как сестра была, ты знаешь. Это хорошо, что вы с Руной… так дружите.
– Конечно, – недоумённо выговорил Грач.
Сейчас было сказано что-то весьма важное и значимое. Была поставлена какая-то грань, проведена черта. Какая, не ясно, но что-то неуловимо вставало на свои места.
В конце переулка появились две девицы, и одна из них протяжно позвала:
– Ру-уна-а!
– Сейчас! – Руна с досадой поморщилась. – Цветик, ты извини, ладно? – она заговорила вдруг ласково, почти нежно. – Мы с девчонками собралась к лавочнику, они уже ждут.
– Ну да, иди, конечно, – Грач не желал отпускать её, встреча вышла такой бестолковой.
– Я зайду к тебе, – вдруг нежно пообещала она. – Потом. Обязательно.
Она подала руку, и он пожал её прохладные, мягкие, чуть влажные пальцы и отпустил.
Те две девицы подошли и пренебрежительно окинули Грача взглядами. Он напрягся. Сжал губы и медленно отступил в сторону.
– А со мной поболтать уже не хочешь? – спасла его Власта.
Надо бы остаться, поболтать с ней, почти родной тёткой. Изгою это не зазорно. Да как назло заела давно знакомая тоска.
– Да нет, – обронил он, – извините.
– Ладно, ступай, – отпустила Власта и о чём-то вздохнула.
В одиночку он пересёк Залесье. Здесь не было общинных дворов и приказных изб как в посаде Приречья. Здесь – слобода, личные усадьбы, богатые и не очень, подворья, конюшни, крупные и не очень. Не очень – это так, как у Власты.
Слобода кончилась. Грач свернул на тропу к липовой роще. Там, в роще, начиналась река Смородина. Снег возле неё лежал пышный, нетоптаный – ходили туда редко. В роще Грач в прошлый раз виделся с Руной. Она сказала, что любит деревья и любит красивые вещи из дерева.
– Надо было сделать ей ларчик, а не какие-то глиняные горшочки…
«Зорька в небе заалеет,
С красотой твоею споря.
Мог её я не заметить,
Зорьку, ночкину сестричку.
Звёзды в небе засияли,
Как глаза твои сияют.
Мог и их я не заметить:
Что мне звёзды – ты со мною!
Мог. Но я зорю и звёзды
Замечаю и, как вечер,
Только их красой любуюсь —
Значит, нет тебя со мною…»
Грач горько усмехнулся: когда-то он написал для Руны стихи, так много стихов, что их можно было бы читать целую ночь. Он не сказал ей о том ни полслова – не верил, что стихи можно будет прочесть. Изгой – это изгой, она не обрадуется. Когда она недовольна, глаза у неё туманятся серым, а когда засмеётся – в них зелёные искры. Не знаешь, когда и краше! А смех ей идет. Когда она смеется, у неё нежнее взгляд, у неё трепещут губы и видны зубы с чуть-чуть неправильным нижним резцом. Нет, изгою надо иметь избыток самомнения, чтобы посметь так влюбиться.
Шесть лет назад посадские судьи зачитали ему поражение в правах. А прошедшим летом – это было перед самой осенью – Грач почувствовал, что дыхание Руны кружит ему голову: ткань, что поднималась на её груди при вдохе, заставляла его трепетать. Руна на несколько лет младше, к ней он привязался, когда она была ещё девчонкой. Ему нравилось общаться с ней, выслушивать её глупости. Внезапно понял, что хочет слышать её смех, рассматривать её черты, касаться её… Прошлой осенью, одним ветреным холодным вечером, он признался себе, что жить на опостылевшем хуторе без Руны уже не может.
Когда-нибудь он решится, признается. Нет, Руне он небезразличен. Она наверняка влюблена в него, просто не может сказать – девушки не должны объясняться первыми! Неужели ему придётся краснеть, дарить цветы, запинаться, просить взаимности? Пусть бы она поняла всё сама – так было бы легче.
Вот, сегодня пообещала: «Я зайду к тебе. Потом. Обязательно». Грачу захотелось подпрыгнуть выше деревьев.
«Мне бы сделать для неё подарок, – подумал Грач и медленно побрёл по липовой роще. – Ей можно, например, вырезать из липы серёжки. Тонкий древесный завиток, почти кружево, мягкое и ранимое, как её ушко. Ведь никто не скажет, что это предосудительно! Ну, или браслетик из липовых звеньев. Ну да, браслетик ей на руку – как знак обручения. Тогда и колечко? Что скажут люди и старосты…»
Он покачал головой: нет, здесь ни одна ветка не годится. Он стал выбирать ветку на другой липе. Присматриваясь, побрёл дальше. Ветку ему надо не толстую, не зачерствелую, но такую, чтоб из неё вышли и кольцо, и браслетик, и серьги. Он углубился в рощу.
Обычно здесь слышно, как журчит речка Смородина. Сегодня она стянута льдом, как и всё Плоскогорье. Журчанья не слышно. Отсюда начинаются две великие реки – Пучай и Смородина. Они будто двумя руками обнимают сёла и города Рода Людского. Интересно, а там растаял ли снег?
Грач выбрал подходящую ветвь, упругую и с молодой корой, не заметив, что сам оказался у Смородины. Речушка под ногами – мелкая, в три шага перейдёшь и колен не замочишь. Но лёд под ногой треснул, и Грач еле отскочил прочь.
Что это? Сейчас показалось, что кто-то едет: вроде бы снег заскрипел под копытами. Нет? Померещилось? Поодаль поднималось заросшее липами всхолмье, речка огибала его с одной стороны, дорога – с другой. Зафыркали кони, погремела и позвенела навьюченная поклажа. Кто это – коневоды? Нет, кто-то поднялся на Плоскогорье снизу. Купцы, коробейники? Но те приходят из Карачара, с другой стороны. А это – путь из Калинова Моста.
Из-за всхолмья показался всадник, за ним ещё двое, потом ещё несколько. Ратники! В последний раз Грач видел ратников лет десять тому назад, в те самые времена. Всадников было человек пятнадцать. Ехали они на измученных, загнанных конях. Грач – коневод, он сразу это определил. У лошадей, как по военному отбору, одинаковая караковая масть. У всадников на головах кольчужные сетки, а шлемы приторочены к сёдлам. С боков – зачехлённые луки. Доспехи в дорожной пыли, плащи изодраны и грязными лохмотьями висят по конским крупам. За сёдлами, полускрытые лохмотьями, торчат тугие, наполненные добром вьюки.
Караван поравнялся. Сойдя с дороги, Грач разглядывал пришельцев. Три всадника отделились и закружили около него, вспахивая снежный наст в опасной близости – всего-то на вытянутую руку. Узорчатая дорогая сбруя никак не вязалась с избитым видом пришельцев. Грач про себя отметил, что кони не местных пород. Скорее всего, степные – длинношеие да с узкой сухой головой.
– Эй, чернявый! – первый всадник окликнул с ленивой грубостью. – Это что – Плоскогорье?
– Ну, всегда было, – в тон бросил Грач, разглядывая копыта: ковка у коней была отвратительной, подковы не по размеру. Так бывает в походной полковой кузнице.
– Что?! – всадник якобы не расслышал.
– Плоскогорье! – огрызнулся Грач.
В молчании всадники покружили около Грача ещё.
– Ты – коневод? – окликнул всадник чуть напряженно. – Нож в руке – зачем?
Грач поднял глаза, увидел рыжую бороду и красные скулы ратника.
– Липу в роще резал… – Грач нахмурился.
– Липу в роще? – неприятно вскрикнул всадник. – Зачем? – он странно забеспокоился.
– Я – резчик.
– Так коневод или резчик?! – всадник не поверил. – Ты – лешак? Слышишь, чернявый!
Всадник потеснил Грача грудью коня. Мигом вспомнились бабкины рассказы, как в прежние времена проверяли полукровок на нечистоту. Его родная мать, вила, в жизни не приближалась к лошади – говорила, что ей грудь щемит. Близко-то подпустит не-человека только лесной зверь, а не конь. Грач назло всаднику выкинул перед мордой коня руку. Лошадь шарахнулась, всхрапывая.
– Ведьмёныш! – ругнулся всадник, отступая.
Вообще-то, не стоит пугать лошадей, когда тебя проверяют на нечистоту. Но всадников, кажется, как раз это и убедило. Они отъехали.
Весь караван прошёл, и только двое ещё задержались. Один с высоты седла, вывернув шею, рассматривал Грача. Приятельски цепкий, чуть нагловатый взгляд. Тонкие, сжатые губы, которые, кажется, должны иногда приоткрываться скалящиеся зубы… Всадник откинул с головы кольчужную сетку, растрепал жёлтые, белесоватые волосы.
«Соловый», – вспомнилась Грачу такая же масть лошади.
– Златовид, это ты, что ли? – с недоверием выговорил Грач.
Желтоволосый всадник одной половиной лица скривился и с натугой расхохотался:
– Цветослав, я смотрю, ты или не ты, – Златовид в шаге от Грача спрыгнул с лошади. – Так, здорово же!
– Зла-ат! – у Грача прорвался смешок. – Разбойник.
– Разбойник и есть!
Злат кулаком ткнул его в плечо. Они обнялись, стуча, как водится, друг друга по спинам.
– Пять лет, – посчитал Злат. – Или шесть прошло?
– Вроде того, – согласился Грач. – Тебя где носило-то?
– А я думал, ты к вилам подался, в матерние села… – это было сказано так легко и непринужденно, но на вопрос Злат не ответил. Грачу это почему-то не понравилось.
– Я – изгой. Меня выселили.
– Свиньи, – Злат сказал это без всякого выражения. – Я наведу порядок, – пообещал. – Наведу. Видел? – он кивнул в след уходящим ратникам.
Грач настороженно проводил их глазами – серых, избитых, с добром за спинами.
А Златовид неожиданно напомнил:
– Ты сам остался. Со мной не поехал.
– Ты и не звал.
– Сам виноват, – перебил Злат и колупнул снег носком сапога со шпорой. – Это что у вас – заморозки?
– Снег не сошёл, – пояснил Грач. – Ещё с зимы. Наведёшь порядок?
Златовид разволновался:
– А кони? Кони как? Без корма?
– На тебеневке.
– Ч-ч-чудо природы, – Злат был раздосадован. – Как не вовремя, не кстати…
– Старики говорят, это не к добру, и быть великой беде.
– Старики твои, – Златовид обозлился, – каждого поскреби – всё упыри да ведьмы! – он стеганул плетью по снегу, тот взвился белыми искрами.
Ведьмами и упырями обзывали чужих. Грач поморщился.
– Я – ведьмёныш, – напомнил сквозь зубы.
– Цветик, – Злат поостыл, – ладно тебе. Где твои выселки?
– После Залесья.
– Садись, – Злат подвёл жеребца и вскочил на него. – Садись позади, я не навьючен.
Жеребец этот был тоже караковым, тоже усталым и загнанным. У него на передней ноге бурела зажившая резаная рана.
…Вот так и несутся кони: вихрь, дробь и топот. Кони крылаты, только крыльев никому не видно. Где и когда неслись эти кони? Как мечты, как мысли, как сны и желания. Кажется, с той поры миновали те самые шесть лет. Наверняка Грач этого не знал. Быть может, кони летели в мечтах, быть может, в чужих принесённых сегодня воспоминаниях.
Всадников и тогда было семнадцать – столько, поскольку им лет. Свежий воздух бил им в лица и пьянил сладостным восторгом. Весна – трудная пора для молодых: то сердце щемит, то грудь тянет, то рвёшься, не ведая куда, точно вон из собственной кожи. Так лошадь несётся, не разбирая дороги, как сумасшедшая, едва повод отпустишь. Весело!
Звенели трензельки в уголках лошадиных губ, звякали медные репейки на шпорах. Всё сливалось в дурманящую музыку, хотелось подняться в стременах над дорогим седлом с высокими луками, над расшитым узорчатым потником и в скачке вертеть над головой чужую присвоенную саблю. Вожачок так и сделал.
Их ватажка безоговорочно признала его вожаком – уже давно, не первый день. Смеясь, он обнажил зубы, некрасиво вывернув верхнюю губу и ноздри. Кони огибали овражки и всхолмья, текли вдоль чьих-то полей, распашек, всходов и изгородок. Дышалось весной, свободой и полем. Вожак опять рассмеялся.
– Зверёныш! Чего ты скалишься?
Это Ярец, он скачет слева на крапчатой лошади.
– Привычка! Забаву чую, – Зверёныш дёрнул головой.
А ведь Ярец прав: надо отвыкать кривить губу. Вот уже и кличка прилипла, а это уже особая примета, почти что метка для розыска.
Ярец, он годом всех старше, а ведет себя и выглядит, как самый молодой. Телёнок, а не пацан – губы толстые и рыжие волосы вьются. Держится всегда слева. А справа от Зверёныша – Путьша-Кривонос со сбитым на сторону уродливым носом.
– Путьша-Кривонос, где взял кривой нос?
В ватажке сдавленно захихикали. Путьша был туповатый парень, проще говоря, пенёк. Заезженную шутку мусолили в сотый раз, а он всё попадался.
– Дык, от папашки достался. Он и наградил… – прогудел Путьша. Ватажку душил хохот.
– У папашки твоего нос ровненький, гладенький, – ласково напоминал Зверёныш. – Ну, только сизоват слегка. Ты что же – не от него уродился?
– Дык, папашка руку приложил!
Грохнул хохот, все заржали, зная наперёд слова Зверёныша:
– Так ты, Путьша, выходит, пальцем делан, да?
– Дык, в руке кружка у него была… Деревянная, а я малой совсем…
Путьшу не слушали, давились хохотом. Зверёныш ещё пробовал сквозь смех выговаривать:
– А на кой ты подставлялся, Путьша?.. А кабы он тебе не нос, а чего пониже на бок-то своротил – чем бы сейчас девок портил, а?
Путьша молча соображал под хохот. Только туда-сюда потянул повод, чтобы конь не крутил головой.
– Дык, а я его трезвым и не помню, – прогудел ещё раз. Потом, уловив, что всё это хохма, сказал беззлобно, даже ласково: – Козлы вы все. Ну, и козлы же. А?
Парни ржали. За спиной остались распашки и посевы с наклонившимися изгородями. В стороне лежали луга и овраги, поблескивала петляющая меж косогоров речка, такая мелкая, что вброд перейдешь и стремян не замочишь. Ни одной рощи или перелеска. Сторона чужая, всё непривычно.
– Парни, узнайте, что за холмом, – приказал Зверёныш. – Быстро!
Трое отделились и понеслись вперёд. Остальные попридержали коней. Зверёнышу нравилось им приказывать, а ещё нравилось, что они ему подчиняются. Дозор поднялся на холм, развернулся и полетел вниз.
– Опаньки, что-то есть, – Ярец вытянул шею.
– Забава, – Зверёныш опять ухмыльнулся, выставив зубы и вывернув губу.
Всадники вернулись. Один, размахивая рукой, прокричал:
– Ну, там – речка! А у мостка купец застрял, колесо потерял! Безлошадный – возок такой маленький, чтобы самому тащить.
– А почему безлошадный? Забава! – решил Зверёныш. Подсвистнув коней, всадники потекли вокруг холма, обогнули и высыпали на бережок с мелководьем, на песчаную отмель у деревянного мостика.
Двухколёсный возок перегородил въезд на мосток. Не возок даже – крупная тачка с оглоблями. У колеса на карачках суетился толстый купчик с сыном-подростком. В возке валялась солома – так перестилают глиняную утварь, когда везут на продажу.
– Здорово, торгаш! – Зверёныш начал забаву. Всадники закружили вокруг да около, растаптывая отмель и разнося песчаный бережок в грязь.
– Добрые люди, честные люди, – заёрзал купчик, зябко кутаясь в стёганку и то роняя, то подбирая снятую шапочку. Седенькая макушка вдруг залоснилась от пота. – Ой, здоровьичка вам и… доброго здравьичка, – запутался купчик.
Сынок его глянул волчонком из-под овчинной шапки и ничего не сказал. Проклятое колесо никак не вставало на место. Может быть, разрушилась ступица…
– Дядя, а переправа-то здесь, разве, не платная? Ой, что-то сборщика нигде не видно. Ты сборщика-то порешил, признавайся?! – парни скалились, весело поглядывая с сёдел.
Толстяк попытался засмеяться, а потом взмолился:
– Хе-хе-хе… Ну, добрые люди, много ли с меня возьмете, ну? Вон вас-то сколько, на всех-то и не хватит… С меня что взять? Другого кого поищите, а?
– А мы проверим, – Зверёныш наклонился, вытянул из ножен саблю и стал ворошить ей в возке сено. Сталь карябала по голой доске – и ничего более.
– Ты, дядя, часом не упыряка? – догадался кто-то. – Почему возок безлошадный? Где твоя лошадь?
– Дык нечисть он! – позже всех сообразил Путьша. – А ну выдь из-за возка и моего коня потрогай! Выдь, кому говорю!
Купчик бухнулся в ноги и, оборотясь к Зверёнышу, стал упрашивать:
– Добрый хозяин, помилуй! Добрый хозяин, спаси! Век помнить буду, – а сам всё бил себя в грудь, но вот только руки держал сжатыми в кулачки. Зверёныш с подозреньем прищурился.
– Пальцы мне покажи, – Зверёныш потребовал.
Шустрыми ручонками купчик вдруг что-то выхватил из-под сена и сунул пацану сыну.
– Беги!
Тот, придерживая баранью шапку, припустил по мостку.
– Держи, держи его!
– Кошелек ему отдал! Уйдёт.
Возок перегораживал въезд на мосток. Всадники носились вдоль отмели, не смея сунуться вброд. Купчик присел за оглоблями, готовый уже ко всему. Кто-то – Зверёныш так и не понял, кто, Путьша или кто-то из его подручных – выхватил лук. Мальчишка был уже на том берегу, всадник привстал над седлом и выстрелил. Мальчишка упал в кусты.
– А-а!!! – завопил отец, выдернул из-под сена жердь и полез на кого-то.
– Эй! – вскрикнул тот, кто получил по спине жердью. – Уймите его!
– Бей! Да бей же его! Он дерётся.
– Кистенём, кистенём его.
Купца кое-как убили. Труп с вывернутой шеей и разбитой головой валялся на мостках. Ярец что-то шевелил телячьими губами, оторопело глядя на труп. Зверёныш злобно оскалился и, отхаркнув, сплюнул. Парни слезли с сёдел, приподняв, сошвырнули возок в воду. Мосток открылся, Зверёныш мимо тела проехал на ту сторону. Конь, чуя кровь, в возбуждении фыркал.
Мальчишка был жив, стрела торчала у него из бедра.
– Надо же, – сказал кто-то, – а я метил в подмышку.
Зверёныш ударил саблей, добил и, брезгливо кривясь, вернулся на свой бережок.
– Зачем? – Ярец слез с коня и чуть не плача глядел на Зверёныша. – Зачем мы его? Это же забава. Он был добрый, смешной и толстый. А мы его так – зачем? Чего он сделал-то, а?
Кто-то из ватажки, пересилив себя, морщась, подошёл к трупу, разомкнул ему кулачок и поднял вверх руку с болтающейся кистью.
– Глядите! – на пальцах купчика вылезли коготки. – Это упыряка.
– Не упыряка, а лобаст. Это лобасты с когтями.
– По мне один хрен.
– Ну и что, – не унимался Ярец. – Ну и что, ведь он безвредный. А мальчишка?
Зверёныш загарцевал на коне. Что ему ответить? Кто-то сбегал на тот берег, нашарил у мальчишки кошелёк. Когда принесли, Зверёныш, не глядя, сунул его под седло. Серебра у них было уже предостаточно.
Дальше поехали тихо. Без игр, без хохмы и веселья. Кривые изгородки, жалкие входы, неглубокие мотыжные распашки одна за другой плыли мимо. Воздух, обернувшись ветром, пошевелил желтоватые волосы. Зверёныш оскалился:
– С каждым разом всё гаже и гаже, – решил он.
Двое на него оглянулись: Путьша недоуменно, а Ярец внимательно. Это были последние слова, когда Зверёныш был откровенен со своей ватажкой. Впереди открывалась жизнь, полная свободы, неподвластности и, кажется, ненужности. И она, эта жизнь, ему, семнадцатилетнему, очень не нравилась.