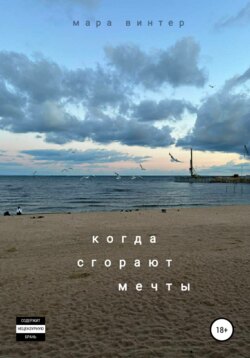Читать книгу Когда сгорают мечты - Мара Винтер - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава восьмая: рык зверя
ОглавлениеМост. Двухкилометровая автострада висит над проливом. Огни охватывают спектр от белого до оранжевого, а ржаво-красные поручни в искусственном освещении превращаются в коричневые, позолоченные, под стать названию моста. «Золотые ворота». Сколько самоубийц выходило отсюда, неизвестно. Сколько едет, тоже. Автомобили двигаются. Скорость: сорок пять миль в час.
Тормозни нас патруль, штрафом не отделаться. У обоих в крови – нелегальные вещества. Кэт ведёт, как по инструкции, покачивая головой под такт поэтической, меланхоличной композиции, льющейся из динамика. Ей до лампочки. Мне, наверное, тоже.
– Какая разница, где мы? – спрашивает урбанистический пейзаж. – С тобой мне всё кажется каким-то… правильным. – Соло в третьей октаве. Небоскрёбы перемигиваются, многозначительно так, всполохами электрического света.
– Ты это мне или амфу? – Не могу не подколоть.
– Дурак. – Хмыкает она. – Тебе, конечно. Он – для других целей.
Ничто не в силах уравновесить лучше, чем молчание с человеком, который понимает. Блики на чернильной воде – маленькие солнца (внизу и сверху), волны бегут синей, гелиевой, тягучей пастой. Кэт откидывается назад от избытка переживаний, вызванных музыкой, шевелит губами, повторяя текст. На губах – след перламутра. Кожа такая неестественно ровная, что кажется кукольной. Веки накрашены трясущимися руками, и это… навевает мысль о вакханской оргии. Связи нет. Логика сдохла.
Следующий эпизод, где я более или менее себя осознаю: я всасываюсь в Кэтрин в кабинке общественного сортира. Чуть раньше мы праздно шатались по торгово-развлекательному комплексу, разглядывая витрины и прохожих. Каким циклоном нас сюда занесло? Её шорты грязнятся где-то под ботинками. Кофта скомканным облаком свешивается с дверцы. Закрепки подвязок от чулок расстёгнуты и болтаются. Нога отставлена вбок и опирается о кремовый ободок унитаза. Над ажурным поясом – рёбра (таких талий у живых не бывает, такие регистрируют в Гиннесе). Её пальцы взлохмачивают мне волосы. Её рот гнётся под моим.
Пластилиновая – слово невольно приходит на ум. Я изгоняю из ума слово. Трусиков на ней уже нет, в лучших традициях эротической литературы они выглядывают из моего заднего кармана: эластичные верёвочки, соединённые едва прикрывающим промежность куском ткани. Волосы на лобке ограничены геометрически идеальной трапецией. Без вросшей щетины и раздражения по краям. Мне нравится её касаться. Её родная кожа лучше, чем грим на ней.
Так, навскидку. Что возбуждает обобщённого, в принципе легко возбудимого подростка? Страницы Плейбоя с фотографиями сделанных, раздутых титек? Сперма, размазанная по типовым, отретушированным моськам порноактрис?
Тени, шепотки, шелка, томно загнутые ресницы? Трущиеся о влажную киску между отшлифованных фитнесом, аэробикой и т. д. булок стринги, лоскутки, в шутку названные нижним бельём? А я скажу, что. Взгляд. Если я вчера глядел на Тони, как на меня сегодня Кэтрин, обвинять некого. Из неё на меня взирает сама похоть. Мессалина перед целой армией. Sed non satiata *.
{ * Lassata viris necdum satiata recessit (лат.) – Утомлённая лаской мужчин, уходила несытой. Ювенал. «Сатиры». }
Она в своей похоти прекрасна. Это я барахтался, подражая осе с ампутированными крыльями. Аскет, тоже мне. Воздержанец хуев.
Пахнет хлоркой, антибактериальным мылом и духами. Её колено мельком теребит мой пах. Её глаза прикрыты, дыхание сбилось.
Кэтрин стаскивает мою футболку, кидает поверх своей. Опускает джинсы мне на бёдра. То, как оперативно она выхватывает из разлезшейся на кафельном полу сумки упаковку кондомов, достойно приза за грацию и скорость.
Натягивает резинку на боеготовый причиндал, умеючи: недостатка опыта уж точно нет. Ощущение ирреальности перерастает в дурманящее чувство сна, где всё можно и тебе за это ничего не будет. Вчера, сегодня, завтра.
Жить нужно так, будто ты спишь.
Она с каким-то дьявольским обожанием… обожествлением смотрит. Снизу вверх. Из гиперактивного рая в отмороженный ад. Разминает, закручивает и нелепо, совсем по-детски прикладывается губами сквозь эластичную пленку. Меня пробирает током. Это же Кэт. Это вправду она, и я делаю с ней то, что делаю. Зная, что могу обращаться, как со шлюхой, здесь, но, стоит выйти за пределы кабинки, как мы моментально вернёмся в друзей.
Без подавляющего и подавляемого.
Я поднимаю её. Я целую её. Ей бы каждый сантиметр перецеловывать, будто в исторических романах. Через замшу перчаток. Урывать с неё робкие ласки в предзакатные часы, скрываясь от бдительного ока гувернанток. Вместо этого я буквально утопаю в смазке: пальцем по клитору, в круговую. Одним – внутрь, и она выдыхает. Два пальца по передней стенке. Она отклоняется назад. На лбу – испарина сквозь многослойные текстуры. Что будет, когда – не пальцы?
Слизываю капли солоноватого пота с её шеи. Такой ранимой, что язык кажется наждачкой. Втягиваю кожу, всасываю губами, вниз, к груди, выглядывающей из приподнятого лифчика. Подхватываю её на руки. Всхлипывает и прогибается, когда мой член вталкивается между обильно умащённых соками складок. Я двигаюсь в ней, она обвила меня ногами, заплела в кольцо. А над нами – вокруг, в нас, незримый, усмехается тот, кто не собирается выпускать обоих из своих владений. Серые глаза. Глаза – пепелище. Он с нами. Его нет.
Я придавливаю Тони Холлидея к шахматному полу, выковыриваю гляделки раскалённым добела прутом, железным. Хоть могу выгрызать их зубами, от избытка злости или сладострастия. Какого дьявола он забыл в моей голове? Такого же, что и шепчет: «Его тут не хватает».
В ней жарко, она, как горящий пух, извивается подо мной, прижимает меня к себе, то тянется целовать, то дышит в шею. При всём этом долго не кончает, очень долго (скорости возбуждают, но за желанием тормозят само действие), с шумом втягивает воздух, вцепляется мне в волосы. Она лёгкая. Я думаю: «Вот что должно длиться вечно». Без финиша, куда мы по идее стремимся, оба.
Волна охватывает её мышцы, сначала внутри, потом – по телу, снизу вверх, её трясёт целиком. В женском оргазме участвуют не гениталии, нет: она вся. Вдох и выдох. Ноги стискивают меня, как клещи. Я физически чувствую эту волнищу, сам растворяюсь в ней, хотя она – не моя, не я… или? Догоняю её почти сразу.
Рык выстрела гасит глушитель.
Стук подошв о керамику. Отпускаю её. Сползти бы по перегородке. Голова кружится. Не знаю, что только что произошло. Как бы с ней, но как бы… не с ней одной. Мне сложно разобраться в том, что чувствую. Потому что привык думать. Чувства – её сфера. Инстинкты – его сфера. Извне, не-я: Кэт и Тони.
Резинка вымокает в стоке. Сперма в чужом ссанье. Кэтрин сидит на крышке, я надеваю на неё трусики. Она говорит: «Да ладно. Не стоит придавать такого значения». Знала бы, какое значение я всему придаю, вряд ли обрадовалась. Кто знает…. Я – нет.
Мы на парковке. Мы и дым.
Кэтрин стучит по краю сигареты. Сантиметр полой бумажной бойницы над крепким, забитым никотиновой смесью фильтром.
Люди – тени. Люди – массовка.
Мост и огни. Факелы в катакомбах ночи. Охватывают диапазон от белого до пурпурного. Ржаво-красные поручни в искусственном освещении становятся коричневыми, позолоченными – под стать названию моста.
Автомобили перемещаются. Тормозни нас патруль, штрафом не отделаться, у обоих в крови – нелегальные вещества. Но легавые не тревожат броский "Матис". Теряемся в потоке машин. Музыка голосит на повышенных тонах. Кэт усиленно делает вид, что ничего особенного не случилось. Да и я тоже.
***
Она уехала.
Её мать позвонила, когда мы подъезжали к нашему особняку: приказала явиться. Обозвала безалаберной, мол, дочь вконец распоясалась. «Я не против ваших отношений с Крисом, – заявила, – но это уже… переходит всяческие рамки». Кэт упорно талдычила, что сейчас позарез должна быть здесь и больше нигде, что это всего на несколько дней и скоро всё вернется на круги своя. Джун Саммер была непреклонна. Пригрозила, что перестанет прикрывать перед отцом и донесёт ему, чем детка занимается.
Кэтрин психанула и уехала, отдав мне на прощание экспроприированный шокер. Неуклюже чмокнула в уголок рта, будто бы не веря, что так можно.
И вот я дома, в доме. Пробираюсь на кухню в кромешной темноте. Веселуха кончилась. Наверняка, на ночь остались гости. Пожевать бы хоть что-нибудь. За швабрами прятаться впору.
Ищу еду, а натыкаюсь на Тони. То есть как натыкаюсь: замечаю и шарахаюсь обратно. Спиной ко мне, едва стоит на ногах, брюхом лежит на холодильнике. Но это ещё полбеды. Смешнее всего то, что он свозит рукой магниты – какими мама выкладывает всякие фразы, себе и прочим. Он свозит их рукой и шепчет еле слышно:
– Я должен найти букву К.
Игра в ассоциации, хорошо. Правильный ответ – первое, что приходит на ум. Кровосмешение, кунсткамера, кастрация, каннибализм, контрастом – Кэтрин.
Тони ползёт по дверце, голова с взлохмаченной гривой волос отогнута вбок. Пьяный в стельку, из шмотья – джинсы и тапочки. Интересно, где Кристина? Она, вроде, должна пасти нас. Или не должна.
– Я должен найти букву Р.
Жуткая буква. Реактив, радиация, разрушение, руины. Всякие катастрофы галактического масштаба. Если апокалипсис вызывает отторжение, можно подобрать что-то попроще. Рубрика, разврат, рвота, расставание. Изредка (конечно, не без этого) случаются периоды ремиссии.
Его лоб упирается в морозильную камеру.
Пальцы перебирают разноцветные магниты:
– Я должен найти букву И.
Истома, искажение, издевательство, истерика. Пройденный этап. Или не совсем. Туда же – изнасилование, измор, интервал, изобличение. Плохо. Возвышенное, ближе к искусству? Импрессионизм? Иллюстрация? Нет… всеми желаемая и никому не близкая (на деле-то) идиллия.
Спотыкается, наклоняясь за последним магнитиком. «Давай, падай сам, без посторонней помощи», – советую молча. Выложил мозаику из моего имени, надо же. Он подвинулся на мне. Я – на нём. Никаких соплей. По хардкору. Не-брат, недо-любовник, пере-враг. Почему нельзя просто оставить друг друга в покое? Всем бы лучше стало. Стало бы?
– Я должен найти букву С.
Содомия с уклоном в садо-мазо. Синергетика – особый, хаотический порядок. Напоследок, решение всех проблем одним махом – старый добрый суицид.
И сопротивление. Саммер.
Моё имя сложено вкривь и вкось, а он над ним, навис, как перед идолом языческим. Разве что не молится. Что за зверь такой, этот его крис? Раз тотемами пахнет. Удав? Кролик? Мышь? Лягушка? Неведома зверюшка.
Неправильное лицо исказила тоска. Попробуй, пойми. От чего и для чего. Хочет трахать трижды мной проклятое тело, точно кроме него ничего нет. Островитянин возжелал пастора-миссионера. И смех, и грех. Ну и как тут понять друг друга? Разговоры бессмысленны. Общий язык… Быть может, арабский, плохо понятный нам обоим. Бязь её слов, её волос.
Шаркаю назад. Засекает звук. Сбивает на пол свой полукрик-полумольбу. Фигурки рассыпаются. Реакция спортивная. Образ жизни – не очень.
– Где ты шлялся, твою мать? – вопрошает. В его представлении вопрос, наверное, звучит грозно.
– Не твоё дело. – Я продолжаю стоять, где стоял. Прищуривается, смахивает в сторону непоседливые пряди: накручивает сам себя, как ревнивая жёнушка. Да ну нахуй. Ору, чтобы-таки доораться: – То сучка, то где был? Определился сам бы сначала! Заебали твои тараканы! Вызови дезинсектора! И его, не меня, ими грузи! Что тебе вообще от меня надо, ну? Ответь, что тебе, блять, надо?
Так надрался, что море ему по колено. Подходит, зажимает мне рот ладонью:
– Давай, ненавидь меня, малыш. – Развозит дикую улыбку по физиономии. – Тебе не плевать, это уж точно. – Выплёвывает обрывисто, схватив меня за плечо, придвинувшись близко до пульсации. Близко. – Визжи и ругайся. Бейся в истерике. Чувствуй, сука. Чувствуй, как человек. Вряд ли ты человек, но хоть постарайся. Хоть ненавидь. А не вот это твоё: «Мне всё равно, я с Плутона».
– Ты – псих! – Кричу не своим голосом, сбрасывая с плеча его клешню. Знаю, что нарвусь, но меня несёт. – Что тебе проку от моей ненависти? Упиваешься ей? Гасишь комплексы? В детстве педофил отлюбил, что мстишь всему свету теперь? Не папочка твой часом, не?
В рожу – удар. Относит меня к стене. Задеваю картину в широкой резной раме. Лоб обдаёт жаром. В глазах искры. Там было стекло. Мешком валюсь оземь. Сверху отрывается от гвоздя непритязательный пейзаж, чтобы грохнуться, ну… в считанных дюймах от моей туши, задев углом плечо. Осколки брызгают в ноги. Не на голову. И на том спасибо. На языке – знакомый привкус, крови. Я опускаю веки: надо сравнять дыхание. Ладно, окей, сам и виноват. Знал, с кем схлестнулся.
Меня обхватывают – поднимают. Отбиваюсь, но это больше походит на конвульсии рыбы, угодившей на берег. Даже глаз не открываю. Не хочу.
Я чувствую, как он тащит меня наверх, чертыхается, переводит дух, чтобы упрямо переть дальше. Неизвестно зачем. Неведомо куда. Каждая ступень пронумерована: прошлого раза хватило, чтобы пропитаться отвращением к лестницам. До моего осоловевшего, смешавшегося разума доходит, к чему ведут завитые перила, но я не нахожу в себе сил воспротивиться. Ничего в себе не нахожу.
– Ну на хуя тебе это, а? – Безнадёжно любопытствую, в подвешенном состоянии вступая в его комнату. Ответа не следует – меня осторожно, бережно кладут на софу, промокают салициловыми салфетками ссадину на голове и разбитую губу – щиплет притуплено, из-за обезболивающего. Доза лошадиная: такой умирающих накачивают.
Странно, что я вообще что-то смог, с Кэтрин, под таким-то препаратом.
– Лучше бы тебе помолчать. – Вздыхает Тони совсем рядом. – Язык по назначению надо использовать, а не нести вздор про вещи, о которых понятия не имеешь. – Умник, как же. Откуда ему знать, о чем я имею понятие? – Брюки сними. – Говорит. – Осколки надо вытащить, пока загноение не началось.
– Пошёл ты. – Отвечаю. – Тоже мне мать Тереза. Будто я не знаю…
– Ни хрена ты не знаешь. – Устало. – Закатай хотя бы. – Тянется сам зарулонить вверх штанины, смазав красные лужицы. Отцепляю его руки, отталкиваю ногами. Перехватывает. Наваливается сверху, распяв на кровати. Зло шипеть без способности дернуться. – Блять, хотя бы сейчас, дьявол тебя дери, можешь не рыпаться? Не буду я тебя трахать, угомонись уже!
У него под ухом – не то засос, не то след коралловой помады. Меня передёргивает.
– Да делай что хочешь, – говорю. – Хуже не будет.
Достаёт из ящика пинцет. Поддевает торчащий в рассечённой коже кусок стекла. Даже не морщусь. Вынимает застрявшие ошмётки, складывает на тумбочку, пальцы трясутся, ну разумеется, столько выпить. Кстати… так и знал, брови он выщипывает. К счастью, пробить добротные джинсы удалось небольшому количеству обломков: как только последний из них оказывается снаружи, опять порываюсь встать. Толкает в грудь, откидывая обратно.
– Ты совсем боли не чувствуешь? – любопытствует.
Зрачки расширены, ресницы – расшатанная чёрная изгородь вокруг пустынных чёрных дыр. Меня посещает мысль, что его взгляд сродни бездне. Расщепляет на атомы душу. Сглатываю. Губы сохнут. Пульс уносится под скорость света.
– Пусти меня, – шепчу. – Или делай то, что задумал.
– То есть ты уже как бы и не против, – усмехается. – Ну-ну.
– Ещё чего! – вспыхиваю, стремлюсь вскочить, он останавливает, сдерживая за плечи, так, что лица почти соприкасаются. Залить воды в ствол винтовки и спустить курок. Выстрел разнесёт полбашки подчистую. Пятна крови, жидкого мозга с плавающими, как островки мяса и овощей в супе, остатками костей. Я не уверен насчёт мозга. Я не уверен насчёт выстрела.
– Ну что в тебе, сучка, такого уж особенного? – мне в губы. – Почему я не могу отделаться от ёбаного наваждения? – Завернуть ломоть хозяйственного мыла в вафельное полотенце. Судмедэкспертиза не подкопается. След избиения не проступит. Если верить интернету.
– Можешь, ещё как. Найти себе другую жертву.
Отпихиваю, наконец-то успешно. И ухожу.
– Йодом прижги, придурок! – советует вслед. – Инфекция попадёт, придётся
ампутировать.
– Язык себе ампутируй, – отзываюсь. – С мозгами эту процедуру ты, видимо, успешно прошёл.
Захлопываюсь у себя раньше, чем он догонит. Заставит пожалеть о сказанном. О чём жалеть-то? Переживём и это, деваться некуда.
Вот они мы. Надежда и опора своих, общих теперь, родителей.