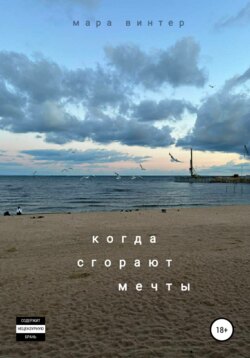Читать книгу Когда сгорают мечты - Мара Винтер - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава седьмая: спица в колесе
ОглавлениеИгнорировать тело легче, чем ему поддаваться. Когда ты над ним, ты всему властелин. Даже рефлексы можешь выключить. За ненадобностью. Чувства – так же управляемы, как и желания. Стоит упасть (стать чувством, стать желанием), как понимаешь: если хочешь обратно, придётся задохнуться. Эта мысль ползёт сквозь сон, вьётся, как фенечка: «Ты сам хотел к нему. Рад?»
Чирк-чирк-чирк. Карандаш чиркает по бумаге. Стучит о подложенную книгу. Шаркает ластик, растушёвывает погрешности. Кэт обожает рисовать меня, когда я сплю: «Не шевелишься, не почёсываешь нос, не поправляешь челку. Как покойник… зато какой покойник!» Первое желание, попросить не шваркать, меркнет в сравнении с болевым толчком, в область темени: как подкравшийся из-за угла бандит. Думал, притупится? Держи карман шире! Ломает, будто по мне танк прокатился и завис над останками, на привал. Задавил гусеницами, облепленными органами, мышцами, костями… о коже речи не идёт.
Доброе утро. Удачного дня.
– Ты вообще сегодня спала? – Ворочаюсь, приноравливаясь к разбитости, но глаз не открываю.
– Полчасика, наверное. – Хрипло так, прокопчённым голосом. Плакала? Курила? Дымом не пахнет. Но могла и выходить. – У тебя губы разбухли. И на шее пятна. Иоканаан, который Иоанн-Креститель, в темнице. Ничего сюжет.
– Ага. – Бурчу. – Тебе видней.
Скрежет прекращается. Всей шкурой ощущаю её пристальный взгляд.
– Скажи честно… – мнётся. – Он и ты… ну… вы с ним… вернее, он – тебя…
– Да, – отрезаю. – Блять, – подвожу итог.
– Пиздец, – подтверждает Кэт.
Вот и поговорили.
Раскрываю веки навстречу русалке, как акула, грызущей нечто красное, продолговатое. Карандаш.
На прикроватной, эм… пристройке – кружка с остывшим чаем. Около, на блюдце, выложен улыбающийся смайлик из сырных крекеров. Около, без блюдца – шоколадный батончик, из питательных.
Щурюсь, разбирая чувство за пологом её волос: тревога.
– Спасибо, – говорю ей. Свет за окном – рассеянный, белый, фонарный. В спальне тускло горит ночник, мебель отбрасывает гигантские тени. Рассвета не было. Она закатывает глаза, так что белки оголяются. За еду спасибо? Не надо, ешь и всё. Вот значение гримасы. – Который час, не подскажешь?
– Около четырёх. Рань несусветная. Можешь ещё поваляться, если хочешь.
Сгорбливаюсь в кокон, натягиваю одеяло по самые уши. Дудят евстахиевы трубы. Мышцы гнутся под очередями шрапнели. Купаюсь в боли. Так мне и надо. Сам виноват.
– Если тебе что-нибудь нужно, я рядом, – сквозь гул доносится до меня голос Кэтрин.
Убаюкивающе скребёт карандаш по бумаге. Я снова проваливаюсь в забытье. Сны проносятся калейдоскопом, и во всех них – Тони. Во всех до единого.
Он стоит на коленях, а я вырезаю ему глаза. Вкручиваю штопор в пустые, текущие кровью глазницы, обезображиваю, коверкая когда-то привлекательные черты. В фарш. Кромсаю его на бифштексы, почему-то приказывая кричать. Мне нужно услышать вопли. Но он молчит.
Будят меня низкие частоты. Из колонок. Из тачки. Вернулся. Нашариваю очки. Прямоугольные, в тонкой чёрной оправе.
Больше никто так не отрывается в… «Полшестого», – подсказывают часы. Пододвигаюсь к окну. Снаружи не заметно, отсюда – отличный наблюдательный пункт. Череп нудит, но не раскалывается. Ко всему можно привыкнуть. (Голову ощущаю, значит, голова есть, и на том спасибо.)
Зачем мне видеть его? Зачем добавлять себе нервотрёпки? Без понятия. Наверное, мазохизм проснулся. С садизмом за ручку. Годами убиваемое либидо дало о себе знать. Или стремление убедиться: то, что было вчера – не плод моего воображения.
Через двустворчатую дверь, на улицу, выскакивает Кэт в жёлтом платье. Локоть оттопырен. Держит нечто блестящее за спиной, что – не разобрать, диоптрии не позволяют. Тони вяло тащится к дому, она – наперерез.
Растворяю форточку со смутным желанием вмешаться. Остаюсь на месте. Как прикрученный скотчем к подоконнику.
– Я тебя сейчас убью, – проговаривает Кэтрин. – Есть за что. И ты это знаешь.
– Слушай, давай не сейчас. Я чертовски устал. Приходи лет эдак… через триста. Для мумий это пустячный срок.
– Ты столько не проживёшь. – Ловит его за лацкан пиджака. С невесть откуда взявшейся силой останавливает в полушаге от порога. Выводит руку из-за спины. В кулаке зажат кухонный нож для резки мяса. Маленькая девочка с тесаком. Алиса из компьютерной игрушки. Он отшатывается, примирительно… предупредительно выставляя вперед ладони. – Я очень постараюсь быть объективной и никого не покалечить. – Механическим тоном. – Значит так. Я разрываю сделку, кайф на кайф. Спорили, так вообще о другом. Так-то ты на памяти печатаешь, хуем? Шутки кончились: использовать того, кто мне дорог, ради чего бы то ни было, я не позволю. Ты услышал? Не позволю!
Тони изгибает бровь, искоса поглядывает на оружие. Ждёт удобного момента, чтобы выбить? Мне страшно не за него, а за неё. Импульсивная, в бешенстве, но какая же крошечная!
– Неужели ты без шуток думаешь, что я позволю какой-то обдолбанной бляди мне указывать?
– Обдолбанная блядь из нас двоих – ты! – взрывается она. – Заметь, я тобой раньше восхищалась. Теперь презираю. Ни о чём не говорит? Если ты спишь с кем-то, к кому тебя влечёт, чтобы вам обоим было приятно, это – не блядство! Блядство – это спускать в человека, как в мастурбатор, самому быть для него искусственным членом или вагиной, дрочить друг об друга, думать только про собственное тело, вот это – блядство! И дело тут не в количестве твоих шлюх. Дело в том, что за уровень шлюхи ты никого не пускаешь. Страх привязаться? Ай-ай-ай, мамочка свалила, мальчика киданула! – как ошпаренная, мечет ему в лицо картечь: слова. – «Чувства – хуйня, есть инстинкты, мы обезьяны, нам ли быть в печали, сложна твоя печаль, слишком сложно, Долли», – передразнивает его. Думаешь, я сложная? Он ещё дальше от тебя. Намного дальше. Он, Крис – живая мысль. Он понимает, зачем Кант девственность хранил. Считаешь, после этого твои джиги-дрыги что-то значат? Ему плевать! И девушкам плевать будет, подпусти ты их ближе. Вот в чём твоя проблема со мной. Я слишком тебя знаю. Знать тебя, вот такого (Квазимодо ты), и любить… тут святой нужен.
Наклоняется к ней, издевательски оттопыривая угол рта. Она не дошла до критической точки. Я это вижу. Он это видит. Близко, но не дошла.
– Полегчало? Теперь заткнись и слушай. Мне по барабану, что там у тебя где, в чём твои печали, с кем ты спишь… живая ты или нет. Ты рядом с Крисом. И это – единственное, что меня рядом с тобой держит, ясно?
Кэтрин выбрасывает вперёд свободную руку, подпрыгивает и заезжает ему пощечину. С разворота, так, что голова вбок откренивается. Ярость колотит её, как прямой контакт с проводом под напряжением. Говорит с надрывом:
– Ты на и десять метров не подойдешь к Крису, ублюдок. Иначе я этим самым ножом тебя кастрирую, отниму самое дорогое. Запляшешь, скопцом-то. Его ты не тронешь, больше нет. А мне терять нечего.
Разворачивается и скрывается в проёме, приложив, как следует, дверью на прощанье.
– Непостижима, мать её.
Потерев ушибленный подбородок, Тони усмехается и отправляется следом. Я, как рыба на суше, застываю с раззявленным ртом, выпученными глазами, пальцами, до онемения сжавшими выступ. Не я её защищаю. Она меня. Причём как говорит, послушайте только! Явление Христа народу. Марлоу – философ, Марлоу – тонкая натура! Разница есть? Разницы нет. «Это приказ?» Нарушила. Подошла, невзирая ни на что. Ни потрошков, ни порошков.
Рубит концы. Останется ли решимость, когда буча поутихнет? На порыве – одно, планомерно – совсем другое. Планомерность – моя черта, или была ею. И помочь Кэт, если она помощь примет, я хочу. Больше, чем остального, хочу.
До её возвращения я успеваю упаковать роговицы линзами, создать видимость заправленной постели и закурить.
До шарканья шагов Тони в направлении ванной я успеваю мысленно проклясть, навести порчу и пристрелить его порядка полусотни раз. Чем сильнее эмоции, тем слабее я. Перед ним.
Кэтрин вкатывается, хрустнув замком: сквозняк. В комнате не прохладно: холодно. Сижу, смотрю на неё, как Будда в колесо.
Ступни прикрыты вышитой подушкой. Многострадальная задница покоится на подоконнике, на ней – широкие штаны, над ней – светлая футболка. Футляр от маминого обручального кольца сменил пепельницу. Бычки – столбы, врытые в землю. На которых собаки справляют нужду.
– Я же сказал тебе не подходить к нему, – огорошиваю прямо на входе. Кривится и мотает головой туда-сюда. Так делают, когда оправданий много, объяснений ещё больше, а утрамбовать всё это в связный текст свыше сил. Освобождаю её от необходимости обтирать притолоку, добавив: – Всё нормально. Я только хочу выбросить его из нашей жизни, понимаешь? Да, трудно, учитывая, что мы типа братья, но попытаться-то никто не запрещает. Мы прикинемся, что его нет, – заминка. – Нет зрителя, нет и представления.
– Крис… – Нервозно заправляет волосы за уши (аккуратные, как на картинке в учебнике биологии, плотно прилегающие: пряди за ними не держатся, сползая обратно на лицо). – Я ничего такого…
– Всё нормально. – Повторяю, хлопая по стылому искусственному камню рядом с собой. – Иди сюда. – Она подходит. Она приходит, если позвать.
А он в отключке валяется. Утомился, бедненький. Разрушил, расколол, раздавил всё, чего не создавал: отдыхает. Ходить на цыпочках, думать шепотом. Главное – не чувствовать. Или чувствовать, да не то. Не нож, опущенный в изголовье. Нож у него между рёбер. Кровь как кровь: как у любого человека, не выходит за оттенки красного. Человек ведь он. Просто человек.
Лоб утыкается мне в ключицу, пальцы заплетают мои. Затяжки от одной сигареты, по очереди – то я, то она. Говорит, что не подойдёт к нему ни с чем. Напоминает: ей осталось немного, полгода, потом колледж, другой штат, желательно поотдалённей. Меня заберёт с собой, не знает как, но наверняка что-нибудь сообразит. «Способ будет», – заверяет обоих, дыхание шелестит мурашками по моей шее. Пока она дышит, я дышу тоже.
Школа. Закрыть глаза тёмными очками. Изолироваться наушниками. Голубые джинсы. Чёрный, просторный, как ночные границы, балахон. Ношеные кроссы. Ничего примечательного. Таких, как я, тысячи. Много тысяч.
Кэтрин околачивается возле меня на переменах, но на уроках-то её нет. А уши у меня есть. Старшеклассники, недорослики. Запах бутербродов, сигарет. И её духов. Бурлит человейник. С ним человьи.
– Бывшая Тони Холлидея ушла к Крису, его сводному брату. – Фамилии разные, суть, видно, одна. – Помоложе выбрала. – Стареет наш Тони! – От неё чего угодно можно было ждать. – Гульнём сегодня? Что думаешь?
Я говорю Кэтрин, что сваливаю, потому что… потому что. Она дерёт зубами губу. Спрашивает, хочу ли я, чтобы она слиняла со мной. Узнай о прогуле её мать, скандалом не ограничится. Говорю ей, всё в норме. Говорю ей, мне хочется побыть одному. Отрывает взгляд от нетронутой порции и даёт понять: «Ты можешь делать всё, что угодно. Номер есть. В любое время дня, ночи, когда угодно. Звони. Я приду».
И тут я понимаю. Выхожу из-за стола. К ней, к стулу с ней, с Кэт, наклоняюсь. Я целую её среди наводнённого лицами кафетерия. Она плывёт, как кубик сахара в кипятке, встаёт следом за мной, встаёт на носочки – маленькая, маленькая, маленькая, её почти нет. Спереди волосы – шелковистые, на затылке – сожжённые щипцами, подвёрнутые бабеттой, уложенные средствами. Как я держу её, так держат фрески для репродукции (из-под руин храма, о ком-то незабвенном), искомые много лет. Кэт отвечает с недоверием: «Правда ли?» Не знаю, что здесь правда, но она ей – выглядит. Правдой у меня на губах.
Отрываюсь, провожу пальцами вдоль её выдающейся скулы, наискосок. И замечаю Тони в дверях: сморщенный лоб, поднятые брови. Заржать ему в харю, вот чего я хочу. Кэт тоже оборачивается. Кэт тоже замечает.
Нечего кому ни лень любоваться нашими разборками. С девочкой, сумкой, спокойно, я шагаю к выходу, мимо него, замершего, как истукан, мимо него, который просто стоит и смотрит.
Кэт не комментирует, наблюдая из-под ресниц. Поджимает губы так, что верхняя застилает нижнюю, поглаживает мою ладонь поверх наших ещё собранных рук. У нее шестнадцатидюймовая талия, обрезанные джинсовые шорты, из-под которых торчат нейлоновые чулки (поутру заезжали к ней: переодевалась). На белой толстовке, с заводским призывом «Leave me alone», * сверху – её исправление, маркером: «Don’t». Don’t leave me alone.
{ * Leave me alone (англ.) – оставьте меня одну. Don’t leave me alone (англ.) – не оставляй меня одну. }
– Пошли-ка отсюда, приятель, – говорит она взрослым голосом. – Здание без нас, небось, не рухнет.
Мы едем ко мне, то есть не ко мне, в дом Холлидеев, в фиолетовом "Матисе".
– Чем бы всё это ни было, – рассуждает Кэтрин, вращая баранку и головой от меня к лобовому стеклу, потом – к зеркалу заднего вида (взгляд – муха, застрявшая в плоскости из трёх точек), – оно куда-нибудь да приведёт. Вопрос другой: тебе туда надо? – на меня, на дорогу, в отражение проезжей части.
– Мне надо понять. Чтобы понять, нужно время, время и одиночество, иначе можно свихнуться. Прошлое понятно. Оценка меняется, но его можно понять.
– Оценка чего именно? – спрашивает. Вперёд, вверх, вбок. Буксует в замкнутом пространстве.
Ей ведь так мало надо: «Дай мне любить тебя, можешь с чувством не соседствовать. Можешь меня не понимать. Я тебя понять постараюсь. Поддерживай меня, как я тебя. Не мешай разрушаться». И вот этой-то, последней, вещи, я не могу дать, будь хоть сестра, хоть девушка, хоть кто. Хочешь рисовать, рисуй. Хочешь умирать, не смей. Почему?
– Оценка потом, с ней сам справлюсь. Кэт… – говорю я, зная: либо сейчас, либо никогда. – Про то, что я сказал тебе там, на этой свадьбе, ну… перед танцем. Я не знаю, что значит это слово, это правда, я не знаю. Ты права, я в голове. То, что происходит, мою голову рвёт на части. И мне очень, очень нужна твоя. Не чувства. Твоя голова. Понимаешь?
– Понимаю, – говорит Кэтрин, что старше меня на два года и кое-что знает о страдании. – Я тебе всё сказала. Голова в твоём распоряжении.
– Спасибо, – отвечаю (глаза в глаза – на полсекунды). – Всё станет понятно. Это только пока. Кажется, я разучился осмысленно мыслить.
Каламбур. Хохот в студию.
Мы смотрим телешоу в комнате, где я живу, в доме Холлидеев.
Девочки вертятся перед камерой, принимают позы, маршируют по подиуму. Лебезят перед знаменитостями, что прикола ради заставляют их выглядеть глупо. Мой дырявый котелок покоится, как на подушке, на коленках у синеволосой ведьмы. Отсюда хорошо видна подчёркнутая пушапом грудь под складками велюра. Её коленные чашечки – экспонат для практикантов в анатомичке. Нет, таких, как она, нельзя в морг. Слишком подвижны для морга.
Позвоночник – мягкий хрящ. Ноги я подогнул к животу. От боли внизу спины не помогает. Скоро должен подействовать промедол. Бронебойная штуковина.
Я честно пытался нейтрализовать боль, не обращая на неё внимания.
Я честно пытался принять её, как факт.
Не вышло.
Кэт рассеянно перебирает пряди моих волос. Приглушает телек. Мурчаще, ласково поёт колыбельную. Её голос без какого бы то ни было объяснения напоминает мне мамин. И я засыпаю. Груз под анальгетиком на тоненьких, похожих на палочки ногах. Чуткая, чуткая девочка. Маленькая моя.
Когда я разлепляю глаза, Кэтрин всё еще здесь, но не подо мной. Лежит в стороне, держа рукой голову, погрузив голый локоть в комфорельную мякоть. На сей раз, к счастью, не использует в качестве натуры – уже прогресс. Судя по сизому лоскутку неба (над спичечными конструкциями соседских домов), вечер стремительно катится к ночи. Глаза цвета венге, контур клочковатый, не точёный, как обычно: дрожь, тахикардия, нарушение координации. Под нижней каймой ресниц – размазанные пятна. Почему ты плакала? Зарядилась, это я понял. За ней, на возвышении – перевёрнутая баночка от мультивитаминов, без крышки, опустошённая.
Снизу доносится тарахтение восьмибитных треков. Возгласы как следует выпитых… да, скорее всего, и ширнувшихся подростков. С Тони станется. Король вечеринок нервно дымит в сторонке.
– Почему ты меня раньше не разбудила? – сиплю я.
– Тебе полезно сейчас поспать. Меньше праздных мыслей. Я закрыла нас на ключ, – добавляет, – и стащила у мамы шокер, так что беспокоиться не о чем. – Проследив траекторию моего взгляда, оправдывается: – Это – остатки заначки. Были.
Она еле удерживается на месте. Иногда мне кажется, химия управляет ей. Дёргает за веревочки.
Снова праздник. Будни, выходные – чехарда разноцветных рамп.
Праздник готовил не он. Он покликал пальцами, услышал гудки мобильника, произнёс несколько предложений, и кто-то снова сделал всё за него.
Организация? Нет, что вы. Тони не опустится до ерунды. Имидж сохранять – это да. Имидж отвязного парня. Папочкины денежки? Тёлочкам до фонаря. Их нужно накачать текилой, опрыскать вискарём, чтобы блузки облепили буфера, и дать за щёчку. За обе щеки, скупиться нечего. Как мне. Ищет меня? Или мы с лёгкостью взаимозаменяемы, я они?
Он даже не попытался говорить со мной. Он даже не попытался меня узнать. Притяжение – далеко не всё, будь оно даже таким, как у нас: вечно правым и вечно левым. Я ненавижу его за то, что не понимаю. Хотя и предполагаю, как работает его голова. От головки.
Система обслуживания. В доме убираются горничные, на участке порядок наводят садовники. Машины чинят автомеханики. Разносчики доставляют пиццу и блюда из ресторанов. Каждый пункт комфортного существования обывателя подстроен под какой-то сервис. Какая служба занимается восстановлением душ? Психотерапия? «Хотите поговорить об этом?» Не хочу, спасибо. Больше способов нет? Пластическая хирургия, нанотехнологии… На дворе двадцать первый век, а спасать самих себя так и не научились!
– Ты можешь делать всё, что хочешь, – говорю Кэтрин. Соскакиваю с кровати на ноги, минуя сидячее положение. – Можешь выйти наружу. Только держи за ремнём шокер. Постарайся не влипнуть в какую-нибудь переделку.
Подползает, сминая ровно застеленный плед, по-собачьи, на четвереньках.
– Пойдём со мной. Оклемаешься. Там столько людей, он не станет…
– Людей? Не думаю, что их там много. Для деток, которые внизу, скандал на тусовке круче, чем реалити шоу по кабельному! – Вдох. Выдох. Не она виной, что он такая гнида. Вдох. Выдох. Я обрываю тираду. – Хорошо, пошли.
Как женщина перед менструацией. С этим срочно надо что-то делать.
Кэт стоит на кровати. Её лицо – ненамного выше моего, хотя я стою на полу. Лакированные кудряшки почему-то пахнут овсяными печеньями. Съешь она одну штучку, и вперёд, криперами на вынос. Надеюсь, что не прав.
– Мы можем уйти отсюда. – Предлагает. – Проехаться до Сан-Франциско. Поторчать в баре. Погулять в парке. Взять билеты в кино. Не обязательно постоянно быть тут. – Теребит изнутри щеку, там, где раньше была ямочка. – Ещё успеем на него налюбоваться. Чего ты хочешь, сам? Не я. Не кто-то. Чего хочешь ты?
Знал бы, сказал. Чего хочу, надо же. Ничего, кроме… ничего.
– Вернусь, поговорим, хорошо? Я на минутку. – Уклоняюсь от ответа, прикрывшись естественными потребностями.
Подобно выжившему в постапокалиптическом романе, выбираюсь из бункера, высовываюсь в коридор. Осторожно. Белобрысый парень, худенький, в пирсе, вжимает в косяк рыжую девку с рвущимися из тугого топа сиськами. Оба – конкретно поддатые. При виде освободившегося "номера" он кидается было туда, но я перегораживаю дорогу с наглым и самоуверенным фейсом:
– Моя комната – не бордель, чувак. – Бордель – напротив. Подталкиваю задом дверь, а Кэт запирается с той стороны. Вышеупомянутый зад отдаётся нытьём.
– Всего на десять минут, чувак, не жмоться!
Его рот так подвижен, что напоминает гиперактивную амёбу. «Десять минут». Передо мной – реалист. Чем ему диванчики не угодили? На виду, ну и что.
Я выгребаю из кармана обезболивающее – глотаю на сухую, скривившись от царапки по горлу.
– Не думаю, что моей девушке это понравится. Комнат итак предостаточно.
Называть её так для меня в новинку, но (вот странность) даже язык не режет. Как нечто, должное случиться. И от чего я так бежал? От игр? С ней-то? Она не играет ни с чем, кроме своей жизни – на синем волоске.
Пытаюсь незаметно скрыться в туалете. Не тут-то было: там занято.
Долбанув для порядку в пластиковую обшивку, ухожу искать другой – благо их, туалетов, несколько. Недалеко ухожу.
Замок щёлкает. Из дверей выпадает нечто, до десятка коктейлей бывшее моей одноклассницей Бриттани. Гофрированные волосы, белые, похожи на львиную гриву. Тушь растеклась. Она прижимает ко рту салфетку. Пахнет лавандой.
Прифигев от её живописного облика, я благополучно пропускаю момент, когда давешняя парочка исчезает в кафельной кабинке. Кто-то блюёт, кто-то трахается. А кто-то в собственном доме чувствует себя лишним.
Бриттани прислоняется к стене, откидывает затылок на мазню малоизвестного кубиста. Рыдает взахлёб, зажимая склеенным, запятнанным слизью и соплями бумажным платочком опухшее лицо. Не замечая зрителя, который я, за поворотом, у лестницы. Зритель – бессердечная тварь, он не пристаёт к ней ни с чем. Из парализованного инвалида, балансирующего на канате без страховки, в коляске, плохая поддержка. Способность к жалости притуплена во мне, как зрение. Ответственность – да. Жалость – нет. Нет в ней смысла. Помочь я всё равно не могу.
Почему она плачет? Любовь безответная? Все там были. Или будут. «Тоже пройдёт». Я сам под таблетками, в которых опиум. Скоро накроет. Осталось потерпеть не больше двадцати минут. Не напороться бы за них на… на него.
Внизу, в зале – воссозданный ночной клуб. Флюоресцируют шары под потолком. Лупают неоновыми глазами. Всё, на что не плюнь, мигает и сверкает, отражается в пайеточных платьях и стёклах полуопорожнённых бутылок. Благоразумно обхожу гостиную, ограничившись косым взглядом. Он, сто процентов, где-то там. Без приключений нахожу нужный "кабинет".
Анестезия действует. Мне легче. Внешняя, от организма – ну и что. Когда я возвращаюсь наверх, Бриттани уже нет. Зато есть моя Калипсо, та самая, с сердцем в сундуке. Перекрасилась, прячет пудреницу в сумку.
Мы с Кэт сваливаем, наскоро собравшись. Нам здесь не место. Мы – чужие. Или они, в доме, чужие нам. В любом случае, уходят те, кого меньше.