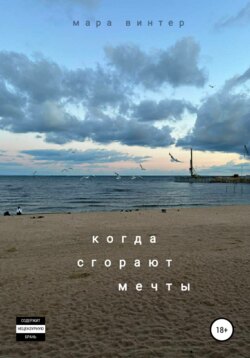Читать книгу Когда сгорают мечты - Мара Винтер - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава вторая: оттенки
ОглавлениеПриглушённая гамма. Бежевые обои, занавески цвета хаки, светло-палевый ковёр на ламинате. Деревянная кровать авангардного типа, со встроенным с левого бока шкафчиком. В шкафчике – книжные полки, миниатюрные дверцы, которые я пока не открывал. Компьютерный стол. Стенка со шкафами и телевизором. Рядом с ноутбуком валяется моя спортивная сумка, расстёгнутая в кривом зевке. А за окном – ночь. Приветливая южная ночь. Не чета куску Джи Джи Аллина со всем дерьмом, который я отныне обязан считать своим братом.
Я взбесил его тем, что вломился сюда. Обитель разврата – вместо внимания старшего, недурственный обмен. Не последнюю роль сыграла-таки сыновняя ревность. Был один, господин, сам себе режиссёр, а тут женщина с мелким, им надо то же, что и ему: внимания. И у них больше вероятности его получить. Как не беситься? Теории рождаются, когда куришь в окно. Теории, ой ли?
Луна очень похожа на фонарь, в оранжевом ореоле. Дверь напротив моей, в коридоре второго этажа, пропускает стоны. Тони стажирует феечку. Круглая пристройка, кстати – между нашими комнатами, там диванчики. Тони меня злит. Нет, не завидно. Нет, не хочу. Он раздражает меня тем, что он есть. Тем, что я могу понять его мотивы, а он мои – нет, пытаться не станет. Голова у нас для шику, волосами в девчонок махать. Взорвался, надо же. Было бы с чего взрываться. Тоже мне, Суинни Тодд. Позёрство одно.
Поспать не удаётся вовсе: ворочаюсь до рассвета, завернувшись в одеяло по самый нос, заткнув уши музыкой. И начинаю собираться… в школу. Переезды, новшества, казановы – ничто не спасёт от принудительного просвещения.
Вложив в глаза прозрачные дольки линз, нахожу ванную. Из зеркала смотрит смазливый хикки. Бледный, черноволосый, невысокий. У него зелёные глаза, зрачки размером с булавочную головку под режущим светом настенной бра. Я себя вижу, но слабо чувствую. Из уважения к окружающим выгляжу опрятно. И только. Лучшее, что моё тело может для меня сделать – не напоминать о себе вовсе. Требуя внимания, оно мешает мне думать.
В зеркале нет динамики. А с людьми есть.
Типичный сюжет молодёжной комедии. Серая мышь переезжает, разрушает местный уклад, встречает принца и парочку верных друзей, пережив череду мелких неурядиц, выданных за трагедии вселенского масштаба. Лузер своё лузерство принимает, как фатум, или снимает маску лузера ради какой-то ещё. Что делать ненормальной мыши, знающей: сама мышиность ей удобна, чтобы незаметно на всех смотреть? Ненормальная мышь; мышь-еретичка. Про таких фильмов не снимают. Или пришлось бы, вместо внешности, показывать бегущую строку. Мысленный поток в ответ на всё, с чем я, так или иначе, соприкасаюсь. Я, который мыслит – это я и есть. Мысли, которые у меня – это только период. Фильм во мне. Без начала и конца.
Утро встречает нас запахом свежеиспеченных блинчиков. Жизнерадостная, в лёгком не по сезону платье, мама источает счастье. Чтобы видеть её такой, я согласен если не на всё, то на многое. Чего уж там. Я для её радости выдержал бросок через всю страну. Хамоватые мажоры по сравнению с ним и близко не стояли. За длинным столом, похожим на барную стойку, я улыбаюсь отчиму (разгладив, как салфетку, колкость в адрес его сыночка). Сажусь на свободный стул. И даже не дёргаюсь, когда вчерашний оболтус плюхается рядом с отцом.
Дэвид представляет его мне и наоборот. Вопреки всему, Тони не отпускает язвительных шуточек, не заявляет, мол, постарается не надрать задницу, но за себя не отвечает, не перечит мачехе, не выкидывает ничего неприличного. Завтрак проходит в относительном спокойствии, если не считать незаметных (для взрослых) волн обоюдной неприязни, взаимной, между мной и им. Кусок не лезет в горло. Вкусно, но не лезет. Готовить научилась. Не лезет и всё тут.
Оглушительная новость. Ему и мне придётся ехать вместе. У меня пока нет водительских прав. Голубки, с нами не советуясь, решили, что братские узы без родства и дружбы – не миф. Местный брат и бровью не ведёт (заезжий и местный, как небесный и земной, Поллукс и Кастор). Не ведёт он меховой, дугообразной, без пеньков снизу, бровью. Дикость для натурала – выглядеть таким рекламным. Метросексуал? Нарцисс? Явно не гей, вчерашний цирк – доказательство… хотя, какое мне, спрашивается, дело? Ещё чего не хватало, рассматривать его с подобного ракурса. Сам я квир. Это значит крайнюю степень свободы в вопросе пола. Я знаю в себе и мужские, и женские черты, так что обращаю внимание и на тех, и на тех, а фактически не нуждаюсь ни в ком. Того, что в голове, хватает с лихвой. Того, что я впускаю в голову через глаза. Наблюдать интереснее, чем участвовать. Наблюдатель видит целое. Участник ограничен собой.
Я напоминаю себе всё это, чтобы не злиться, как участник.
Покидав учебники в рюкзак и, по привычке, набросив куртку, выхожу на улицу. Сентябрь деликатный. Лето не кончилось. Лето манит нежиться под солнцем. Мы вынуждены грызть гранит науки. «Уподобимся же улитке, – говорю я себе, – и схлопнемся в раковине похуизма».
Переднее сиденье кабриолета. Кабриолет красный, сиденье белое. Мама улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Замечаю у неё в руках трубочку – каталог свадебных нарядов. Белые волосы на солнце отливают золотом. Наброшенная на плечи кофточка, вязаная, делает её какой-то уж очень уютной. Зелёные глаза – не битое стекло, но лесная хвоя. Глаза, как у паломника, что после долгих лет скитаний нашёл-таки свой Грааль.
Холлидей-младший запрыгивает на водительское место. Не утруждаясь прогревом двигателя, стартует и выворачивает на дорогу.
Я отвлекаюсь от напряжения тем, что мну обивку своего кресла, изредка косясь на его профиль. Если приглядеться, заметно, что на носу у него – лёгкий залом, горбинка, а на правой щеке – родинка. Не круглая, нет: немного вытянутая, чуть выше носогубной складки. Молчание принимает вид затишья перед бурей. Холлидей прибавляет громкость музыки. Игнорирует сигналы обгоняемых авто. Выписывает синусоиду по встречке. Огибает попавшийся на пути грузовик. Шофёр орёт, высунув в окно багровую морду. Нарушитель демонстрирует ему серебряное кольцо на среднем пальце.
Ещё немного, и за нами увяжутся полицейские. «Не заговаривать первым», – как же, с ним и мёртвый взвоет. Я вою, перекрикивая электрогитару:
– Сбавь скорость! Захотел с копами пообщаться?
– Захлопни пасть, – цедит сквозь зубы.
Но меня несёт. Несёт меня редко, но метко. Хочется показать, что он – не господь бог, а я – не одна из проституток, кому что характер, что член показывай, всё сглотнут. На место поставить хочется. Вот я и выпаливаю:
– Да что ты о себе возомнил? Думаешь, раз твой папаша – важная шишка, то всё можно? Без него ты – ничтожество. Яйца бетонные твои – в воображении, сам – ноль без палочки. И сбавь, наконец, скорость! Сиди в участке сам, если хочешь, а мне не нужны проблемы по твоей мило…
Цапнув за волосы, с размаха прикладывает лбом о переднюю панель.
– Беги, пожалуйся мамочке.
Башка трещит. За веками – искры. Мгновенный шок отступает. Просыпается желание, нет… скорее, потребность раскроить эту рожу. Рацио (рационал во мне, так понятней) вмешивается раньше, чем злой карлик. С последним мы впишемся в столб, чью-нибудь тарахтелку или человечью тушу на тротуаре. Откидываюсь назад, сообщая зеркалу заднего вида:
– Да пошел ты в жопу, Холлидей. Ты и вправду больной.
Он не затрудняет себя ответом.
Сооружение в несколько корпусов напоминает гигантский муравейник. Тут и там копошатся студенты, стекаются в разномастные группки. Красотки в еле прикрывающих задницы юбках вытаскивают длинные ноги из автомобилей, приветствуют друг друга поцелуями в щёчку, обнимаются, не касаясь. Качки гоняют по извилин…е кадры из порнухи, тешась надеждой прочистить трубы у тёлочек. Есть и неудачники, вроде меня. Невидимки с тоской во взоре.
Школа как школа. Сборище долбоёбов.
Останавливаемся. Прямо перед носом курит девчонка с синими волосами. В ней есть что-то азиатское, но глазищи такие здоровенные, что кажутся почти круглыми (пушистые реснички в пол-лица, со вкусом подобранные тени). Хоть сейчас сниматься в шоу, где фрики. Трёхдюймовая подошва криперов не даёт ей роста: крошечная. В свободных джинсах. На них пятна краски. В огромной серой футболке с надписью: «Отъебитесь». Руки изящные. Из-под мешковатой одежды одни руки и видно. Взгляд – тёмный и отрешённый.
Мой водитель (не брат уж точно) перемахивает через бортик и кладёт руку на её плечо. Мне остаётся возвести очи горе и выйти из машины, открыв дверь.
– Привет, Долли *. Подумала над моим предложением?
{ * Dolly (англ.) – куколка. }
Девочка ловко выворачивается из-под его руки. Не меняясь в лице. Плечи дёргаются: либо противно, либо больно. Голос у неё мелодичный, а то, как именно она его отшивает, заставляет меня задержаться ещё ненадолго.
– Мне довольно удушья от растворителя, когда рисую. Будь так добр, Тони. Раз уж взмахнул членом, удуши себя сам. Пожалуйста.
Тони сокрушённо вздыхает, парируя:
– Кэт в своем репертуаре. Одумаешься, сама приползёшь, да поздно будет.
Кэт крепко затягивается и выдыхает волны дыма в его физиономию:
– Переживу.
Он глядит на неё. Глядит на меня. Забрасывает полупустой рюкзак за спину. Уходит в люди. Его прибытие вызвало ажиотаж. Глаза, уши, языки по самые сплетни, носы по самое любопытство, ноги и руки, всё сменило направление. На него нацелен прожектор. Провинциальная легенда, значит. Ну-ну. Я иду к куколке, что легенду отбрила. Куколка держит сигарету (ногти – обкусанные, синие). Не поворачивается, предупреждая шорох моих шагов:
– Лучше держись от него подальше. Сволочь ещё та. Подотрётся и в унитаз смоет.
– Рад бы. – Дёргаю углом рта, изобразив усмешку. – От сводного брата, да в собственном доме… подальше удержишься, конечно.
Вскидывает лицо, озирает меня из-под густой туши. Отмечаю, что с гримом она переборщила: вблизи смотрится, как маска на венецианском карнавале.
– Сочувствую. Запасайся валерьянкой. Нервы он перегрызает на раз-два.
Кто она ему? Злая бывшая? Или гордая несостоявшаяся?
– Это я и сам понял. – Додумавшись, что неплохо бы представиться, говорю: – Я – Крис Марлоу.
– Кэтрин Саммер. – Тушит бычок о собственную сумку. Складывает туда же, в передний кармашек. – Хочешь, встретимся в перерыве. Я тебе всё покажу. На самом деле, тут неплохо. Если не считать, таких вот кадров.
Мне везёт. С первых шагов наткнулся на возможного приятеля. Немного в том же темпе, и примерещатся кинозрители, поглощающие вёдра попкорна, чтобы моя судьба лучше переваривалась.
– Здорово. Значит, увидимся.
Кэтрин кривит рот. В её глазах нет радости, но есть… понимание.
Дальнейшие события не заслуживают того, чтобы о них упоминать. Получение расписания, сухопарая остроносая тётка, дежурная улыбка и пожелание удачи. Героические усилия против храпа на уроках, информация – ватный ком.
Обед, вкуса которого не я ощущаю (со вкусом у меня серьёзно что-то не так). Взарез с собой выискиваю среди школьников длинноволосое наваждение. Тони появляется в кафетерии, окружённый… кем только ни окружённый. Высокая причёска Кэтрин заслоняет его, не всего, частично. Синие завитушки, аж до пояса, с макушки начёсаны и подобраны клетчатым бантом. Корни – синие. Натуральная синяя. Из-под консилера вылезает синева… и на шее… синяки? Её били? Нет. Свет так падает. Она отнюдь не напоминает жертву. А я цепляюсь к мелочам, чтобы не смотреть на проклятого братца.
Кэтрин, которая Кэт, не говорит о нём. Рассуждает абстрактно:
– Люди здесь, у нас, так пытаются выделиться, что теряют индивидуальность. Почему бы ни выражать то, что уже есть, не гонясь за чьими-то тенями? «Быть как кто-то», – кто заслуживает, всерьёз, если нет богов, подражания? Жил себе человек, творил и резал кожу, потому что жить было больно. Другой увидел его и скопировал. Боли в нём не было, было желание крутости, тёмная романтика кумира. Вот я и говорю: зачем всё это? Есть ли резон пустоте подражать тому, о чём она понятия не имеет? И, если все – пустота, есть ли хоть один из всех – не? Мне не надо алтарей, капищ, пирамид, даже бога не надо, мне бы знать… с чего себя списывать. Но, похоже, поиски – глупость. В их корне обман. А в Калифорнии курортничают, чего всем желают. Так что…
Бутылка колы шипит, когда она отвинчивает крышку. Тони косится на нас и шепчет в ухо брюнетке в полосатом платье. Брюнетка прыскает.
– Зачем себя с чего-то списывать? – переспрашиваю. – Ты уже есть, ты – это ты. Вокруг много чего случается, одно добавляется к другому, но сознание-то прежнее. Хотя в целом ты права. Маски растут из лиц. Жаль, в большинстве случаев маски играют людьми, а не люди масками. Чокнутость и странности – вместо себя самого. Самому-то основываться не на чем. Кем хочешь, тем и будь. Что угодно думай, главное не делай. Понарошку думай. В блоги думы кидай. Или предложенное кем-то думай. Если самому лень.
То, что она сказала, заслуживает лучшего, чем мой, ответа. Я знаю, что плету околесицу. Сожитель буравит неотрывно. Мелкой крупой рассыпаются мурашки – гнусные предатели. С нашей дистанции его черты искажены, контуры глаз – резче, а радужка такая блёклая, что кажется белесой. Зомбарь из старого ужастика.
– Вот и я про то же, – сетует Кэт. – Забыли, что такое независимость, только день её отмечаем. Все подряд указывают, как одеваться, выглядеть, что есть, чем себя окружать. Как думать, даже чувствовать. Поэтому худеть так тяжело. – Неожиданно вклинивает. – Отдельно я, отдельно мир, а раньше были вместе, в гармонии. Худеть, это как… сделать своё тело – объектом своего наблюдения. Сделать еду – внешней себе, замечая, что ты ешь. Я не думаю об этом, значит, я это и есть. Как только я начинаю об этом думать, оно – уже не я. Тело, оно ведь живой ты-сам, правда? Вот я и думаю. Макдональдс был, есть и будет. Культ тростинки процветает. Но непонятно. Контролирую ли я тело, придавая ему форму, или через тело хочу контролировать чувства?
– Тебе не надо ничего делать, – говорю я. – Такая, какая есть, ты красивая. Со всеми чувствами, какие есть. И лицом, – не умею делать комплименты. Но она, похоже, не кокетка. Даже не анорексичка. Её ответ меня добивает:
– Не в этом дело. Я имею в виду, может ли искусство быть основанным не на всей жизни, а на лучших её частях, возвышенных? Я рисую, то есть я пытаюсь поймать момент. Удержать его. Но сама постоянно меняюсь. Даже, когда ем, я меняюсь. Идеал на холсте – идеал ли, созданный неидеальной мной?
– Ты живая. Может, не идеальная, зато живая.
– А хочу быть скульптурой. Не живой, зато бессмертной.
Тони, жестикулируя, рассказывает что-то чернокожему парню со сложными татуировками, вьющимися от плеч до кистей, продолжая наблюдать за мной… или за Кэтрин. Смешливая лапочка жмётся к нему. Девушка в сером, рядом с парнем, девушка в модном, в объятиях парня. Ну и наборчик.
Противный трезвон завершает игру в гляделки.
До конца уроков я понимаю, что мне нравится эта художница, запутанная мыслями и волосами. В ней есть движение. И желание остановки. Она не только думает, но думает сама. Таких в наши дни редко встретишь.
До конца уроков я прилагаю нечеловеческие усилия чтобы не помнить (потому, наверное, и помню) о Холлидее и его взглядах: жутких. Порыв рвануть автостопом на противоположный конец материка, обратно, становится нестерпимым. Паранойя? Смена климата? Или всё-таки интуиция?
Преодолев неудобство, я прошу Кэтрин подвезти. Она соглашается. Более того, предлагает заскакивать ко мне по утрам, чтобы избавить от общества Тони. Я не спрашиваю, что между ними. Она распространяется о чём угодно, кроме него. Некоторые вещи порой и впрямь знать необязательно.