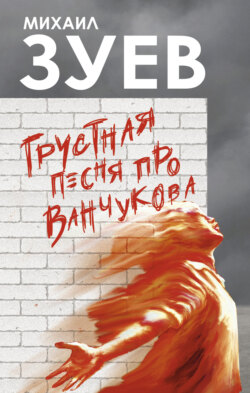Читать книгу Грустная песня про Ванчукова - Михаил Зуев - Страница 10
Часть первая
Глава 5
ОглавлениеОдинаковые дни, похожие на белёсые немытые молочные бутылки, сменяли друг друга. Начинались – скучными утрами, заканчивались – пропитанными усталостью вечерами. Калерия Матвеевна, лишь только Ольгерду исполнилось три месяца, выпихнула дочь на работу. Та не возражала; ходила прилежно в конструкторское бюро за кульман, как скотина в стойло, прибегая днями на кормления да чтоб сцедиться – благо недалеко. Сергею Фёдоровичу вообще всё было без разницы, он не лез. Не мужское дело.
Одинаковые дни текли – один за одним, один за одним. Но одинаковыми они были только для Изольды. И совсем разными для Ольгерда – Олика, как звала его бабушка – и для самой Калерии Матвеевны. Ребёнка не залюбливала, не сюсюкала, не тетёшкала. Выпускница Смольного, которую длинные страшные десятилетия так и не научили держать спину сгорбленной, знала: у мальчика впереди жизнь. Поблажек не будет. Поэтому с самого начала видела в нём и делала из него не мальчика – мужчину.
На капризы внимания не обращала. Капризы как начинались, так и заканчивались. Орать по пустякам Олику быстро наскучило. Понял, что результата не будет. Зато между внуком и бабушкой родился безусловный, какой-то глубинный, рефлекторный, неразрывный контакт. В педагогике Калерия Матвеевна сильна не была, умных книг про воспитание детей не читала. Где-то внутри себя, звериным чувством, ощущала: чтобы ребёнок вырос человеком, ему нужно эту человечность дать. Безусловным образом обеспечить. Иначе – откуда взяться? Поэтому всё, что делала Калерия Матвеевна – кроме, конечно, обязательного кормления, прогулок и подмывания задницы – она с Оликом разговаривала.
Говорила постоянно. Столько слов она не сказала за все предыдущие семь десятков лет. Рассказывала сказки. Сказки были длинными, озвучивались в лицах, разными – страшными, смешными, добрыми – голосами, с паузами и продолжениями. Олик лежал в кроватке, таращил глазёнки. Калерия Матвеевна оказалась настойчива и терпелива. Она знала – если говорить, если держать контакт, глаза малыша изменятся. Карие вишенки засветятся, на дне их родится смысл. Само не произойдёт, нужно работать. И она работала, из часа в час, изо дня в день.
Когда Изольда прибегала на кормления, Калерия Матвеевна, прерывая занятия с Оликом, становилась нервной, раздражительной, злой. От греха подальше уходила в свою комнатёнку, садилась на кровать, курила, кашляла, терпеливо ждала, когда дочь, дрянь такая, постучит наконец в фанерную дверцу – та всегда была закрыта; ребёнок и табачный дым несовместны! – постучит, просяще выдавит: «Мама, ну, я пойду, мне пора…»; и тогда Олик снова поступал в её безраздельное владение, и так продолжалось до самого-самого вечера.
А вечером надо было снова запираться в комнатёнке, потому что время Калерии Матвеевны заканчивалось, и теперь Иза возилась с сыном; Калерия же Матвеевна терпеливо ждала, пока вернётся Сергей Фёдорович.
Тот открывал дверь её каморки без стука, радовался встрече, махал рукой: «Пошли!» Калерия Матвеевна с зятем усаживались за скрипучий казённый столик на кухне. Доставали, по настроению, домино или шахматы; гремели костяшками и фигурами, стучали по столу, орали «ры-ы-ба!» и «шах-х-х!»; варили кофе, потом беседовали о разном – степенно, неторопливо. Если по телевизору обещали футбол, шли смотреть.
Футбольным знаниям Калерии Матвеевны мог позавидовать любой арбитр. Она с лёгкостью раздавала карточки и офсайды, назначала штрафные, угловые и пенальти и – надо же – почти никогда не ошибалась! Сергею Фёдоровичу, сказать честно, не хватало матери. А Калерия Матвеевна стала для него даже больше, чем родная мать, больше чем Фрида, давно жившая безвыездно далеко, в тесной коммуналке с сестрой Рахилью, в центре Москвы, на Покровке, превратившейся теперь в улицу Чернышевского. Мать вспоминалась в жизни Сергея Фёдоровича лишь раз в месяц, когда Изольда заходила на почтамт, отправляла той перевод на двадцать пять рублей ноль-ноль копеек – словно всякий раз покупала мужу индульгенцию.
Каждый вечер Сергей возвращался домой с удовольствием; именно Калерия Матвеевна была тому безусловной причиной. Горькой мудростью последней декады жизни она понимала: не привяжет маленький сын к дому. Сергей Фёдорович не такой, не «отец по призванию»: спокоен, безучастен, зациклен на работе. Калерия Матвеевна знала: и Иза тоже не привяжет мужа, ибо, кроме женских прелестей, не было в ней ничего особенного; а уж как недолговечно очарование «писечкой», ещё и при избытке женского голодного населения в выбитой кровавой войной стране, Калерия Матвеевна знала многое. Если не всё. Понимая, что недолго ей осталось, немного уже впереди деятельных лет, она легла на амбразуру, делая людей из двух дорогих ей теперь мужчин – Олика и Серёжи. Понятно, ни тот, ни другой об этом не догадывались; им было не положено.
Вскоре и очень кстати настало лето. Теперь бо́льшую часть светового дня бабушка и внук проводили в близлежащем городском парке. Лишь только Олик начал ползать, бабушка отпускала его из коляски на травяную лужайку, которая, и это было заметно, нравилась малышу гораздо больше, чем домашний манеж. Чистый воздух с ярким солнцем сделали доброе дело: щёки Олика всегда были розовыми, аппетит – отменным. Врачей же посещали лишь по необходимости – показаться для профилактики да поставить полагающиеся прививки.
Мир Ольгерда Ванчукова – да простят нам невольную вольность трактовки, хоть мы и знаем его настоящую фамилию – стремительно менялся. Под действием вектора силы тяжести перевернулось воспринимаемое сетчаткой глаз изображение, верх стал верхом, а низ низом. Расплывающиеся цветные пятна теперь легко наводились на резкость, превращаясь в знакомые и незнакомые образы и движущиеся картинки. Из какофонии звуковых каскадов выделились родные голоса, уличные шумы; бубнение кухонного репродуктора стало песнями, оперой и опереттой – правда, таких слов Ванчуков пока не знал. Бабушка продолжала читать сказки. Увидев в глазах малыша интерес, добавила к своему исполнению патефонные пластинки, на которых сказки и истории читали актёры МХАТа и Центрального детского театра. Изольда пыталась во что-то влезть, вмешаться, но Калерия Матвеевна лишь всякий раз недовольно обрывала её неуклюжие попытки. Иза обижалась, но помалкивала. Понимала: вряд ли она сама смогла бы сделать лучше.
Когда Олику минул год – случилось то, понятно, глубокой зимой – и он собрался уже вполне самостоятельно пойти, Калерия Матвеевна приладила к внуку помочи-ходунки и каждое утро теперь отправлялась вместе с ним по узкому коридору – осваивать дальнобойный маршрут из большой комнаты в кухню и обратно. Падать не мешала; подхватывала в полёте помочами в самый последний момент так, чтобы прочувствовал, что такое падение. Поначалу Олик недовольно хмыкал всякий раз, отлавливая свой нос в нескольких сантиметрах от пола. Потом сосредоточенно замолчал, а вскоре начал улыбаться, поднимать голову вверх, глядя на бабушку: вычислил ангела-хранителя.
Летом, как раз, когда стукнуло полтора, как раз тогда, когда Ванчуков-младший оказался на краю мокрой поляны в траве, покрытой грязью, ходил он уже вполне сносно. Бабушка сажала возле дома в коляску; на половине дороги высаживала на тротуар – иди сам! Если уставал, сажала обратно, но совсем ненадолго. Опять высаживала – иди, не хочу тебя возить! Олик быстро привык, стал не только ходить, но и бегать. Самостоятельное движение доставляло очевидное удовольствие. Говорить Ольгерд начал в один день: ещё утром молчал, а вечером уже было не остановить. Вернувшиеся с работы, притихшие поначалу от удивления родители быстро освоились, кинулись болтать с ним наперебой без умолку. Молчала лишь Калерия Матвеевна. Улыбаясь, сидела в углу комнаты. Она снова – в какой уже раз – оказалась права.
Ближе к сентябрю из своей столичной Москвы в гости наконец снизошла Фрида Моисеевна. Сергей мать не видел давно, даже робел поначалу. Та вела себя чужой тёткой. С Изольдой поручкалась коротко, близоруко глядя из-под тяжёлой оправы, едва кивнув так, что Иза почувствовала себя оплёванной. Олика взяла на две минуты на колени, изображая интерес; потом избавилась, спустила на пол, сунула какую-то дешёвую пластмассовую машинку. Пожав недоумённо плечами, Сергею тихо сказала: «Не понимаю, зачем тебе…» Было то наедине, но Калерия Матвеевна услышала. Минут через пять пригласила Фриду Моисеевну в свою каморку, прикрыла дверь. Сказала пару фраз, сдобрив образчиками лексикона, в совершенстве освоенного в красных застенках образца тысяча девятьсот девятнадцатого года в Тобольске. Ашкеназско-лютеранский гонор оказался бессилен пред разъярённым презрением выпускницы Смольного института, русской дворянки с дальними греческими корнями. Тем же вечером пышущая злобой Фрида стараниями срочно приглашённого в дело Нечистого съехала в другой номер малосемейки, а через день и вовсе ретировалась из города.
– Простите, Сергей Фёдорович, – сказала следующим вечером за шахматами Калерия Матвеевна. – Простите. Я несдержанна и груба. Примите великодушно мои извинения… – сделав паузу, добавила следом короткое матерное слово. Ванчуков в смущении отвёл глаза, потом «зевнул» тёще «слона».
– Никому не позволю, – отчеканила! – так вести себя с моим внуком… – замолчала, потом твёрдо закончила: – И с моей дочерью. Увольте, дорогой зять.
* * *
Лето шестьдесят четвёртого для Сергея Фёдоровича выдалось жарким во всех смыслах.
Лёва в первых числах июня защитил кандидатскую. На защиту отца, конечно, приглашал, но Ванчуков ехать не решился. С работы бы отпустили, жену, понятно, и спрашивать бы не стал. Но вот не поехал. Боялся встречи с сыном. Умом понимал: ничего плохого та встреча за собой бы не повлекла; совсем даже напротив. А вот сердцем – не смог. Смалодушничал. Позвонил на следующее утро, и то – не сыну, а Финкелю. Витька звонку обрадовался, сказал, прошло блестяще, просто без сучка, без задоринки. Так что ещё семестр, ну, максимум два, Льву Сергеевичу надо походить в старших преподавателях, а там будут уже выставлять на конкурс на доцента кафедры.
Сергей Фёдорович в начальниках прокатного цеха чувствовал себя вольготно. К своим почти пятидесяти, убелённым лёгкими пока сединами, годам в профессии для него уже давно не было белых пятен. В коллективе Ванчукова уважали за неутомимость, железную логику и глубокие знания всего заводского цикла, а не только своего прокатного дела.
Завод заканчивал возводиться, дел строителям там ещё оставалось на год-два, не больше. Исподволь началось движение, незаметное глазу постороннего: стали тихо, но неуклонно заменяться руководящие кадры. Старые начальники, один за одним, подымались с насиженных кресел; уезжали. А на их места расставляли давно заждавшихся повышения вчерашних заместителей из числа нацкадров.
Национальная политика – штука непростая. Когда зачинается новое дело, то все ставки, конечно, на «варягов». Потому что собственных спецов нет: взять неоткуда, не обучены, а если и как-то обучены, то молоды, не готовы к серьёзным нагрузкам и запредельной ответственности. «Варяги» – другое дело. Старые, опытные. Ушлые, наглые, знающие цену себе и жизни. Приезжают, разворачивают завод на пустом месте, запускают производственные циклы. Берут без страха на себя трёх-четырёхлетний стартовый и переходный период. А дальше… дальше нехорошо варягов оставлять. Они, конечно, инициативны, работоспособны, квалифицированны. Но есть одна беда: плохо управляемы. Потому что многие вещи, если не все, знают лучше других.
Пока завод запускают, местная власть зубами поскрипывает, но готова терпеть «варяжьи» выходки. Ругань с горкомом, баталии с горисполкомом, требования по отдельному продовольственному и промтоварному снабжению заводского коллектива, постоянное вытаскивание сдаваемых свежих новостроек из городского фонда с передачей жилых домов в ведение завода. Понятно, не для себя стараются, для людей: иначе кто пойдёт на завод-то работать? Если жить негде и есть нечего?! Кругом степь, в степи летом жарко, зимой замогильно холодно. Да и одной зарплатой хорошие кадры не заманить, все понимают – зарплату ещё куда-то потратить надо. Вот и отгораживается завод от города ОРСами[9], где тебе и мебель, и одежда, и телевизоры с холодильниками без очереди, и продукты питания – всё есть для своих. По заводским пропускам.
Не нравится такой «коммунизм не для всех» местному начальству. Но вынуждено терпеть; терпеть и исполнять, иначе всё встанет; а если встанет – так с них самих республиканский ЦК тут же головы снимет. Но как только вышли на проектную мощность – в руководстве завода становятся нужны люди управляемые и полностью зависимые от местной власти. Тем более, если ещё и присоединяются тонкости, связанные с национальной политикой. А уж они присоединятся, будьте уверены.
Какие-то два года назад в заводских управленцах не было видно ни одного лица коренной национальности. А теперь у каждого начальника цеха, у каждого заведующего службой – в заместителях спец из числа нацкадров. Один шаг, один щелчок – и старое начальство пойдёт вон, а вчерашние заместители станут начальниками. Другой вопрос, что они там сами накомандуют. Но ведь не идиоты. Натасканы за несколько лет наставниками. Всё должно быть нормально. Если нет, то пусть теперь сами и отвечают.
А варягам – тем пора подниматься на крыло. Ждут впереди новые города, новые заводы.
Вяч Олегыча неделю назад срочно затребовали в Москву. Ему собраться – подпоясаться, да до аэродрома доехать. У завода два своих самолёта, так что вылететь можно буквально через полчаса. Вернулся сегодня ночью, уже не из Москвы, из Днепропетровска, ближе к утру. Не спал, не брился, на утренней планёрке выглядел усталым, но довольным: огоньки в глазах. Ванчуков знал, когда и отчего в глазах Барышева появляется неподдельный охотничий азарт. Перед началом планёрки подошёл, тихо сказал: «Вечером у меня. К семи. Не опаздывай».
Дверь барышевской квартиры открыл Нечистой. Сергей Фёдорович рассмеялся: в едва налезшем дамском кухонном фартуке с фривольными фигурными рюшечками Иван выглядел весело.
– Тебе бы вот лишь бы поржать, Серёжа! – сам засмеялся Нечистой, обнимая Ванчукова за плечи и увлекая на кухню, где раздавались глухие тяжёлые удары.
Вяч Олегыч, в таком же фартуке, деревянным молотком отбивал мясо. Чтобы не летели брызги и крошки, куски были завёрнуты в марлю. Петя Люсов, главный энергетик, без фартука, споро рубил на кухонной доске овощной салат. Барышев ласково улыбнулся Ванчукову, пристально посмотрел на Нечистого.
– Я понял, Вячеслав Олегович, понял, сейчас!
Нечистой поднял со стола наполовину уже уговорённую бутылку зубровки, наплеснул Ванчукову:
– Штрафная!
– Так я же не опоздал! – шутливо попытался оправдаться Ванчуков.
– Ничего, догоняй, – не переставая резать салат, сказал Люсов.
Сергея Фёдоровича дважды упрашивать было не нужно. Зубровка упала на голодный желудок, голова приятно загудела. Ванчуков не пил уже так давно, что забыл, когда поднимал рюмку в последний раз. Вспомнил: в феврале, на второй день рождения Ольгерда.
Мясо шкворчало на сковородке. Барышев переворачивал куски с виртуозной свирепостью заправского повара. С картошкой на соседней конфорке управлялся Иван. Возле маленькой плиты вдвоём они умещались с трудом, то и дело толкаясь плечами.
– А мне чем заняться? – спросил Сергей.
– Хлеб рубась, тарелки в столовую носи, – распорядился Нечистой.
Расселись, скрипя стульями. Быстро, молча, чокнулись – очень хотелось есть. Ванчуков только сейчас понял, как же голоден.
Барышев в два богатырских укуса умял половину отбивной, жестом показал Нечистому – давай, разливай очередную.
– Ну что, ребята, дорогие мои, прикипели к степи? – Вяч Олегыч хитро обвёл собравшихся взглядом.
– Да не то чтобы особо, товарищ главный инженер, – так же хитро улыбаясь, пробасил Нечистой.
– Вячеслав Олегович! – Люсов преданно глядел на Барышева. – Важно-то – не где. Важно – с кем.
– А ты, Серёжа? – спросил Барышев.
– А я, Вячеслав Олегович, согласен с предыдущим оратором.
– Ладно, принято. Тебя, Вань, не спрашиваю. Я про тебя и так всё знаю.
Нечистой благодарно кивнул в ответ.
– Тогда, ребята, объявляю новую задачу. Едем отдыхать.
– Это как? – не понял Люсов.
– Ты фрукты любишь, Петя? – спросил Барышев.
– Люблю, Вячеслав Олегович.
– А сало?
– Ещё бы!
– А горилку?
– Ну, кто ж её не любит! – встрял Нечистой. – Хотя зубровку мы тоже вполне уважаем.
– Серёжа!
– Да, Вячеслав Олегович!
– Серёжа, а ты море любишь?
– Он его плохо любит, плохо! – шутливо загудел Нечистой. – Я море люблю лучше!
– Ну, тогда выпьем – за фрукты, за море, за сало, за горилку! – поднял рюмку Барышев. – Ещё, конечно, придётся поработать. Но работать мы с вами и так умеем. А вот после работы окунуться в море или в лиман – такое, да-а-а, не везде получится…
– Когда едем? – спросил Ванчуков.
– Я – в понедельник. А вы втроём – в июле. Квартиры ваши готовы. Ждут. Там сейчас подмажут стены, починят по мелочам, если что прохудилось ненароком. Нечистой мебель на этой неделе закажет. Ну, ребята? Возражений нет?!
Только лишь Сергей пошарил своим ключом в замочной скважине, как дверь распахнулась. Изольда не спала. Ванчуков разулся. Не снимая пиджака, прошёл в большую комнату, плюхнулся на диван.
– Едем, Иза.
– Куда?
– На Донбасс. К самому синему морю. Поднимать завод.
– Когда?
– Скоро. Через месяц. Я, Нечистой, Люсов. Вяч Олегыч распорядился.
Иза почувствовала, что мужу прямо сейчас очень хорошо. Настолько, что, наверное, так не бывает.
– Барышев – директором. Люсов – главным энергетиком. Ваня – начснабом.
– А ты? – взяла Сергея за руку Изольда.
– Начальником прокатного. На полгода. Потом, – Ванчуков встал с дивана, – потом главным инженером.
– Ты заслужил, Серёжа.
– Я ещё десять лет назад заслужил. Может, пятнадцать.
– Я знаю, – обняла его Иза.
– Думал, не дождусь, – потерянно прошептал Сергей Фёдорович.
* * *
Всё было спокойно, как-то буднично. За неделю до отъезда Нечистой подогнал грузовой фургон с прицепом.
– Тут по трассе три с половиной тысячи, за пять дней доберутся, – улыбался в усы Нечистофель, – даже если пешком пойдут.
Грузчики стаскивали вниз ящики да коробки. Скарба набралось прилично. Было уже и кое-что из купленной, своей, не казённой, мебели.
– Обрастаете хозяйством! – радовался Нечистой.
– Куда ж денешься! – смеялась в ответ Иза.
– Не забыли ничего? – спросил Нечистой с первого этажа.
– Не-е-ет! – звонко крикнула, перегнувшись через перила в лестничный проём, Изольда.
– Принято! Отправляю тогда гавриков!
Остались в пустой квартире. Олик спит. Серёжа на работе. «Хорошо, кровати дом-приезжские, а то пришлось бы на раскладушках», – подумала Изольда.
– Ладно, уж переживём как-нибудь, – безразлично обвела взглядом пустую квартиру Калерия Матвеевна и отправилась на кухню варить кашу. – Вся посуда уехала. Ладно, разберусь. Иза, иди сюда!
– Да, мама!
– Зачем ты всё время рассматриваешь эту дрянь?
Дрянью Калерия Матвеевна назвала старый потёртый медальон, привезённый Ванчукову Фридой Моисеевной. Внутри стеклянного овала был наклеен выцветший от времени написанный гуашью портрет мальчика, будто две капли воды похожий на Олика. Лицо на портрете принадлежало маленькому Фёдору Викентьевичу.
– Зачем это тебе?
Иза молчала.
– Зачем?
Дочь тихо заплакала.
– Так я и знала! Что она тебе сказала?
Иза продолжала молчать.
– Что?!
– Сказала: «Похож».
– Какое её собачье дело?! – зашлась от негодования Калерия Матвеевна. – Как ты вообще позволила ей в таком тоне разговаривать с собой?! Дай сюда!
– Мама…
– Я сказала. Сюда! Дай!
Иза протянула матери медальон. Калерия Матвеевна с силой бросила стекляшку на пол.
– Никто!.. не смеет!.. и никогда!.. не посмеет!.. упрекнуть мою дочь в неверности!.. – приговаривала мать, с каждым словом с хрустом разминая стекло каблуком.
– Зачем же так, ма-ма-а-а… – всхлипнула Изольда.
– Затем, что кроме меня никто тебя не защитит, – прошептала Калерия Матвеевна. Отвернулась, чтобы дочь не увидела слёз. Как будто их можно было спрятать.
9
ОРС – отдел рабочего снабжения.