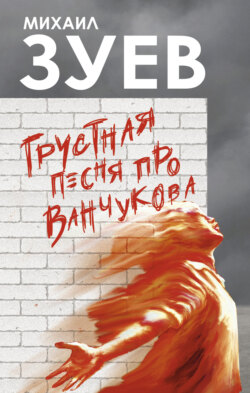Читать книгу Грустная песня про Ванчукова - Михаил Зуев - Страница 9
Часть первая
Глава 4
ОглавлениеИзольду повезли в роддом вечером в среду, в самом начале февраля. Точнее, не повезли: повёз – Нечистой. С транспортом дело зимой в казахской степи обстояло неважно. За неделю до того, как Изе рожать, разом на морозом битую для приличия немного припорошенную землю обрушилась снежная буря; и не прекращалась шесть дней кряду. Стало темно. Даже днём солнце, словно карандашным грифелем, было всё зачиркано вьюжными вихрями. Ольгерд потом уже, годы спустя, когда прилично подрос, рассматривал фотографии той странной зимы. Вот, к примеру, тянутся на завод грузовые поезда с рудой и углём. Крыши тепловозов с вагонами – прямо вровень со снегом. Как будто в метротоннеле идут поезда. А вот главная городская улица – первых этажей не видать; дома торчат, словно большие баржи, тяжело гружёные, утоптанные, вбитые в наст по самую ватерлинию. Магазинные двери – наспех откопаны, витрины белеют мутным холодным молоком из-под снега.
Почему мать на сносях в родильный дом вёз Нечистой, а не сам Сергей Фёдорович? Всё просто: у Нечистого в хозяйстве был вездеход. Плохонький, несуразный, но живой, тёплый, натопленный, с печкой на брикетах внутри, с торчащей из кунга трубой. Нападало столько, что без гусеничного хода никак не добраться, хоть бы и всего-то три или четыре километра. Летом, вон, пешком пройти и даже не заметить. У Сергея же Фёдоровича в хозяйстве ничего, кроме своих двоих, не было. Начальнику прокатного цеха личный транспорт не положен. На завод и обратно со смены ездил автобусом.
– Вы только не волнуйтесь, Изольда Михайловна! – гремел Нечистой. – Всё будет в самом полном порядке! Вы сейчас в роддом, а к вашему возвращению мы всё подготовим: и кроватку, и коляску, и ванночку… – Изольда, плохо соображая, в ответ на басовитые трели Нечистого только рассеянно улыбалась.
– Сергей Фёдорович! – гудел снова Нечистой. – Я Изольду Михайловну сейчас отвезу… да, отвезу и сразу вернусь! У меня приданое для вашего малыша давно уж припасено! Отдел рабочего снабжения в положение вошёл, постарался! Коляска – та вообще немецкая, киндерваген гемахт ин Дрезден[8]! И вы, Калерия Матвеевна, не беспокойтесь! Пусть зима тут в степи и холодная, а жизнь теперь у нас совсем другая будет, тёплая… Отогреют всех нас дети-внуки…
Изольда, бережно, мелкими шажками ведомая под обе руки вниз по лестнице мужем и Нечистым, вдруг всплеснула руками:
– Ой, сумку, кажется, забыла…
– Я сейчас! – крикнул Сергей; помчался наверх. – Идите, спускайтесь, я догоню!..
В прихожей схватил сиротливо забытую в углу холщовую сумку с нехитрыми причиндалами, запрыгал цаплей через две ступеньки вниз. Нечистой осторожно грузил испуганную Изу в хрипящий на холостых хилым бензиновым моторчиком сорок седьмой «газон». Сграбастал сумку, залез сам, хлопнул водителя по плечу – мол, трогай – проорал в открытую дверь Ванчукову:
– Фёдорыч, не дрейфь, я скоро!
Без пяти минут бабушка, Калерия Матвеевна, не зная, куда себя деть, переминалась больными ногами возле гладильной доски. Стопка простынь и пелёнок – прогладить-то надо с обеих сторон! – потихоньку росла.
– Я на кухне посижу… – тихо сказал Ванчуков.
– Конечно, Сергей Фёдорович, идите. Поглажу пока. Поужинайте, всё готово.
– А вы?
– Да не до еды мне, дорогой Сергей Фёдорович. Кусок в горло не лезет.
Ванчуков пожал плечами, кивнул, повернулся и пошёл через длинный коридор, в который выходили все три крошечные комнаты дом-приезжской малосемейки, на шестиметровую кухоньку. Заглянул в одну кастрюлю, приподняв крышку, в другую. Есть и правда не хотелось. Снял телефонную трубку, набрал «ноль семь». Назвал город, номер телефона. Только успел насыпать в турку три ложки кофе из жестянки ленинградского молотого, как телефон коротко несколько раз хрюкнул.
– Спасибо, – ответил Сергей телефонистке, – я, да… заказывал.
Трубка немного помолчала, потом отозвалась баритоном:
– Да, слушаю.
– Здравствуй, Витя! – бодро откликнулся Сергей.
– О-о-о, Серёжа! – обрадовалась трубка. – Как твои дела?
– Ничего, вроде пообвыкся.
– Холодно у вас?
– Не так холодно, как противно, – поморщился Ванчуков.
– Как жена? – спросила трубка Витиным голосом.
– Час как в роддоме.
– Ну, ты молодец! – обрадовалась трубка.
– Стараюсь, – поддакнул Сергей. – Слушай, как там мой?
– Твой-то? Серьёзный он, Серёжа. Прямо как ты в молодые годы… – в голос Виктора замешалась смешинка. – Не нарадуюсь. А ты что, волнуешься?
Ванчуков промолчал.
– Ладно, Серёжа, ладно. Понимаю тебя. Ты далеко, сердце отцовское неспокойно. Но ты это зря, милый ты мой. Лёва твой молодец. Я под него уже аспирантское место выбил.
– С трудом? – спросил Сергей.
– Ну, Серёжка, без труда даже хрен не вытащишь из пруда, не то что – рыбку. Нормально всё было. Мне в этот год так и так два аспирантских места дали. Так что Лёва вовремя оканчивает. В следующем мест не будет. А у тебя там кто – мальчик или девочка?
– Вить, ну мне-то откуда знать…
– А хочешь кого?
– Как получится… – сказал Ванчуков. Он просто хотел жить. Становиться в сорок семь отцом в третий раз ещё год назад не входило в его планы. Ну никак.
– Ладно, – сказала трубка. – Не волнуйся. Всё сделаю.
– Спасибо, Витя, – искренне поблагодарил Сергей Фёдорович.
– Не за что. Ну, давай, брат…
– Давай… – эхом ответил Сергей и повесил трубку.
С Витькой Финкелем Ванчуков учился в одной группе. После выпуска пути разошлись. Сергей остался на заводе, Витька уехал аспирантом в Москву. Защититься не успел, призвали в действующую армию. Стал танкистом – он миниатюрный. Повезло: в танке ни разу не горел. Был ранен, но легко. Не контужен – а то бы досрочно комиссовали. Войну закончил под Прагой. Ещё два года служил на Дальнем Востоке, следом вернулся в город, в капитанских погонах. Защищался уже в родном институте. Учёный совет не успевшему в сорок первом стать кандидатом физматнаук танкисту на защите аплодировал. Теперь вот уже два года заведовал кафедрой физики с курсом физики прочности материалов.
Сергей знал, что перед Лёвой виноват. Почему – сформулировать бы не смог, но вина была и точила его изнутри с самого того момента, как вся эта его эскапада случилась. Ещё Ванчуков знал – и это даже нигде внутри него не обсуждалось – что всегда должен помогать, хоть сын и сам семи пядей во лбу и сам пробьётся… А пробьётся ли? Желающих хватает, а торных дорог в жизни мало. Ванчукова столько лет то одни, то другие, то по тем причинам, то по этим обходили на поворотах. Дочка Ирка – ладно, та девчонка, мать её к себе в лабораторию уж как-нибудь пристроит. Лёвушка – другое дело. Могут обидеть, бортануть самым наглейшим образом: мол, кто ты такой?.. Кто вступится за тебя?.. Ты и сам разберёшься, а нам тут своего человечка надо пристроить, так что погуляй до другого раза, нам нужнее…
* * *
В окно малосемейной кухоньки пытался постучаться рассвет. Чёрно-стальное небо на востоке потеряло глубину, стало сероватым и вскоре, недолго думая, порозовело. Наконец над горизонтом появилась тончайшая полоска яркого сияния. Так начинался первый день совсем новой жизни.
Сергей с блуждающей по лицу глупой улыбкой кособоко скрючился на табуретке со стаканом в руке. Пьян за прошедший с пробуждения час он стал уже изрядно.
– Сергей Фёдорович! – гудел рядом Нечистой. – Ну какая же она у вас молодец! Меня спросили – первородящая? Я отвечаю – да. Тогда, говорят, минимум сутки, а то и двое, кто ж гарантию даст. А она видите как быстро управилась! Ну, давайте, Сергей Фёдорович! – Нечистой чокнулся с Ванчуковым с такой силищей, что ванчуковский гранёный стакан, до половины налитый коньяком, чуть не вылетел из руки свежеиспечённого, в очередной раз, отца.
– Как назовёте? – с интересом спросил Нечистой. Все его слова, все его расспросы всегда были искренни. Вяч Олегыч, перефразируя классика, смеялся: «На сцене нельзя переиграть ребёнка, собаку и Нечистофеля!..»
– Вот я и говорю, – продолжал Нечистой, не дождавшись ответа. – Мы же новые ясли через полгода откроем, прямо в квартале от дома приезжих! Так что, если нужно, Изольда Михайловна сможет досрочно на работу выйти.
Ванчуков слушал болтовню Нечистого, и ему было хорошо. Даже непривычно хорошо. Много лет прошло, как Ванька Бурлаков и Слава Утёхин сгинули в Сталинграде. С тех пор больше друзей у Сергея не было. Только сослуживцы.
Большой уютный Нечистой в друзья Ванчукову не набивался. Вяч Олегыч сказал – помоги Сергею на новом месте по мелочам, если что-то понадобится. Но Нечистой по мелочам не умел. Если уж помогать – так во всём. Вот и сейчас: мало того, что жену Сергея окружил заботой; мало того, что в четыре утра оборвал телефон, поздравляя с сыном: «Вот, слушай, Сергей Фёдорович, я записал! В три часа сорок семь минут местного времени! Три кило семьсот, пятьдесят два целых сантиметра, оценка по шкале Ап… Ап… тьфу, чёрт!.. Апгар, вот!.. Восемь из девяти! Не выговоришь же!»; мало того, что пятнадцать минут спустя примчался, на горбу припёр, страшно по лестнице громыхая, весь дом приезжих перебудив четверговым утром: коляску, кроватку и ванночку – от неё больше всего было звона, будто колокол на колокольную верхотуру поднимали; так ещё и коньяк из-за пазухи, как джинна из бутылки… и, пока три тоста за три минуты не задвинул, не успокоился! Сейчас, рядом с Нечистым Ванчуков чувствовал себя так, что он не на собственной малогабаритной обшарпанной кухне, а будто в Сочи, в санатории «Металлург», в самом разгаре июля. И вот лежит он у прибоя на топчанчике и набирает в кулак песку, и песок тот из ладони сыпется, и делать ничего-ничего совсем не надо, и солнце пригревает, а море тихо за спиной плещет…
– Иван… – тихо позвал Нечистого Ванчуков.
– А?
– Слушай, Иван! Вань! А откуда у тебя такая фамилия? – был бы трезвый, конечно б, не спросил. Постеснялся. Но давно уже подпирало: вот и не удержался.
– Ой, Серёжа, – как-то даже смутился Нечистой. – Тут такая история…
– Вот и давай. Выкладывай! – воинственно сказал Ванчуков, доливая остатки коньяка в стаканы. Нечистой чуть наклонился, пошарил под столом на ощупь, достал из портфеля вторую бутылку.
– Ты, Сергей Фёдорович, сам какого года?
– Пятнадцатого.
– А рождён когда?
– По старому стилю – первого января. А по новому – тринадцатого.
– Понятно. А я, Серёжа, по старому стилю двадцать пятого октября семнадцатого, а по новому – седьмого ноября.
– Слушай, Вань! Как это тебя так угораздило?!
– Вот именно, что угораздило. Как и с фамилией. Нашли меня. Как щенка бездомного какого. Или котёнка. На станции, недалеко за Уралом, в двадцать втором году. В беспамятстве валялся возле путей. Патруль шёл – наткнулись на меня. Хорошо, лето. Живой. Руки-ноги целы. Может, с поезда сбросили. Может, сам вывалился – кто ж его знает. В больничку отнесли. А я – ни как звать, ни сколько лет, ни кто мамка, ни откуда – ничего не помнил.
– Совсем ничего?
– Ну да. Совсем. Они меня спрашивают – кто таков? Я слова-то понимаю, а сказать ничего не могу. Сижу, грязный весь, что твой шахтёр; в болячках, в струпьях. Стали метрики выправлять. Ну, говорят, с именем всё просто, будешь Иван Иваныч. Фамилию долго придумывали. Кто-то говорит – смотрите, мол, до чего жизнь-то мальца довела, грязный какой. Ну, значит, будешь Нечистой. Место рождения – Екатеринбург запишем, тут рядом. А день рождения? Будешь аккурат в день нашей революции! Так вот и записали. Потом оклемался немного. Отмыли, откормили, вшей повыводили. Отправили в детдом в Саратов. Так-то вот и стал я – Иван Нечистой, ровесник Октября.
Ванчуков хорошо помнил свой тысяча девятьсот двадцать второй. Москву, четыре комнаты в огромной квартире. Длиннющий балкон, выходивший на суетливую площадь, где на другой стороне замер в задумчивости грустный бронзовый Пушкин. Отцовский чёрный «форд» с водителем. «Елисеевский» гастроном через два дома, вниз по Тверской. Это ведь тоже был двадцать второй… Только, выходит, у каждого свой. Странное чувство посетило пьяненького Сергея Фёдоровича. «Вот, – думал он как-то не изнутри себя, как бывало обычно, а словно снаружи, как будто думал за него кто-то другой, но при всём том знал, что думает именно он, – вот… одно время… одно место… или почти одно место… и вот мы здесь рядом, а на самом деле всё для всех совсем разное. Мы с Нечистым за одним столом, руку вытяни – так друг в друга упрёшься. А на самом деле живём мы в разных временах и разных пространствах. И, оттого что всё рядом, они не перестают быть разными».
«Одна жизнь – у меня. Другая – у Ивана. Третья – у Изольды… наверное, спит теперь в изнеможении. Четвёртая – у детей моих, далёких, оставшихся без отца. Пятая – у этого, три семьсот, пятьдесят два сантиметра… Вроде вместе. А так – поврозь. И ничего с тем не поделать, хоть ты из кожи своей вылези, хоть ты к тому, кто тебе дорог, голым мясом по дороге ползи. Не доползти, не слиться с ним, не стать им. Не суждено». Ванчуков, будто осоловевшая лошадь, попавшая в рой слепней, мотнул головой, пытаясь немедленно отогнать от себя проклятое наваждение, – раз, другой…
– Что, Серёжа? – всполошился Нечистой. – Болит чего?
– Душа болит… – как на духу, тихо признался Сергей Фёдорович.
– Ничего. Пройдёт, – уверенно положил ему на плечо тяжёлую руку Иван Иванович Нечистой. Человек без имени, без даты рождения, без фамилии. Ванчуков разглядывал его, будто впервые. Будто никогда не видел этих знакомых волевых черт лица, будто никогда раньше не слышал спокойного, уверенного голоса. Ванчукову было тепло, как в детстве. И не коньяк вовсе был тому причиной. – Поспать бы тебе, Серёжа, – сказал Иван. – Притомился ты. И я пойду, пожалуй. А то поднял тебя ни свет ни заря.
– Ну что ты, – виновато улыбнулся Ванчуков. – Что ты, что ты. Что значит – «поднял»?
– Ладно, – привлёк его к себе Нечистой, обнимая. – Иди спать, отец-герой. Я за собой сам дверь закрою.
– Иду, – кивнул Сергей Фёдорович и почти что твёрдым шагом поковылял в спальню.
Уже коснувшись лицом подушки, уже в безмятежный сон проваливаясь, успел подумать: «Страх. Вот что я есть – страх. Всего боюсь, всегда боялся. Иван не боится ничего; нет у него страха. Доброта – есть. Уверенность – есть. Надежда на что-то такое, никому, кроме него, не видимое – есть. Страха – нет. Вот бы мне…» Ванчуков почти был не здесь, когда, словно пузырь метана из топкого вонючего болота, всплыла последняя мысль: «Если б не женился, написала Иза в партком? Или не написала?..» И тут где-то глубоко внутри выключили свет.
* * *
…Михаил Иванович – улыбка солнышком, лучики морщинок от озорных глаз, блюдечко в руке – хрустнул откушенным от ослепительного куска сахаром, с наслаждением сёрбнул пышущим жаром чаем.
– Калерушка, знаешь, что было сегодня? Сижу я в кабинете. Вдруг дверь открывается, входит споро – в подштанниках, без обуви, глаз лихой, в руках нож кухонный. К столу моему сразу шасть, глаза закатывает, раскачивается, бубнит тихо: «Михал Иваныч, буду тебя резать и есть, резать и есть, Михал Иваныч, резать и есть…» Я сижу, обмер весь. Он здоровый такой, как конь, да с ножом – лезвие сантиметров двадцать, наточено хорошо – у нас повариха инвентарь блюдёт. Думал, смерть моя пришла. И тут – словно кто мне подсказал. Спрашиваю: «А ты соль принёс?» Он смотрел-смотрел, раскачиваться перестал, говорит: «Нет». Я тогда: «А как ты меня есть-то собрался без соли?» Он замер. Встаю с кресла: «Садись в моё кресло, сиди, жди меня. А я за солью пойду!» Хорошо, ключ от кабинета в кармане был. Представляешь, Калерушка, психиатрическое медбратья забыли закрыть! Вот черти!..
Калерия Матвеевна размежила веки. «Двадцать с лишним лет назад ушёл. Четыре года как умер. Что же меня в покое не оставишь?!» Ни с того ни с сего, заплакала тихо и привычно коротко. «Это ж не он меня в покое не оставляет; то я его ни забыть, ни простить не в силах». Села на скрипящей кровати с металлической сеткой, сунула ноги с нехорошим рисунком вен в тёплые шлёпанцы. Не вставая, не открывая форточки, выбила из пачки «любительскую», остатками передних зубов зло прикусила картонный мундштук. Чиркнула спичкой, затянулась. Хотела было закашляться, передумала. Выпустила в крошечную комнатёнку облако фиолетового дыма. За нешироким окном занималось утро.
Сергей Фёдорович спал на животе, широко раскинув руки. Решила не будить. В большой комнате стояла уже собранная Нечистым детская кроватка – Калерия слышала, он не сразу ушёл, когда на кухне в полшестого угомонились. Коляска занимала почти половину того, что здесь называлось прихожей. Ходить теперь придётся по стеночке. «На лестнице оставлять нельзя. Сопрут, как пить дать сопрут». Детскую ванночку хозяйственный Иван Иваныч водрузил на специально вкрученный в стенку ванной комнаты шуруп.
Калерия Матвеевна мешала на плите кашу. Мыслями же была далеко. Из всех сестёр осталась только Тамара, так и до той полторы тысячи километров. «Эмилия, Миля – в восемнадцатом от тифа, в тюремном бараке. Серафима, Сима – в сорок втором угнали в Германию с оккупированной Украины. Ни следов, ни вестей. Татьяна, Танечка моя любимая, близняшка моя – два года назад, операции не перенесла. Ещё Ольгерд, Олик наш, должен быть жив. Судьба пощадила, наверное. Так и тот, как уехал в шестнадцатом в Америку – с тех пор никаких вестей. Ну да ладно, имя красивое. Знаю, как мальчика назвать. Изольда ничего, кроме Пети ли, Паши ли каких, не придумает. А то ещё какую пошлость учинит. С неё станется».
Столько было Калерией Матвеевной рождено детей, и всё, получается, без толку. Всё насмарку. Время прошло. Жизнь прошла. Зачем? Чтобы осталась вот эта, Изольда? Вот такая, как есть?! «Да она мне даже внука – и то случайно принесла!» Калерия в сердцах взмахнула рукой, будто отталкивая от себя ненавистную дочь. Выключила газ. Села. Закурила, теперь закашлялась. «Если уж с детьми не вышло, нужно из внука человека сделать. Кроме меня, некому».
Каша пригорела.
* * *
Изольда стиснула зубы: саднили свеженаложенные на разрывы швы. Боль – не боль, а до туалета дойти надо. Набрякла грудь, особенно слева: молоко пришло споро, обильно. Тяжёлое, сладкое, липкое. Нужно раздаиваться, сцеживаться, иначе – мастит.
Малышей на кормление в палату сестричка стала заносить через полчаса. Изольдиного принесла последним: спокойный, прав не качает. Грудь взял без капризов, дело сделал быстро, отрыгнул, сразу уснул. Иза смотрела в сморщенное, чуть желтушное, какое-то асимметричное личико, ни на кого не похожее, и не понимала, что она ощущает. Последние полгода прокатились мимо какой-то серой пеленой – безразлично, безэмоционально, как в тумане. Хотела ли ребёнка? Нет. Не хотела? Тоже нет. Было всё равно.
Изольда хотела другого: чтобы её любили. Хотела – по крайней мере, думала, что хочет – любить сама. Но любить не умела: не научена. Некому оказалось научить. Да и её саму любить было некому. С появлением этого морщинистого человека, даже не сейчас, полгода назад, когда стало понятно, что беременность суть не её выдумка, а факт – вот только с его появлением в жизни возникла определённость. Сначала призрачная, потом твёрдая, а затем и вовсе железобетонная.
Ванчукову в ответ на все экивоки сказала просто: «Буду рожать, с тобой или без тебя, но буду». Конечно, можно было решить иначе. Запрет на аборты отменили в пятьдесят пятом, но при одной мысли об этом Изу передёргивало. Сергею сказала: «Как ты смеешь такое предлагать? Там же – человек! Такой, как ты и я!» Получилось убедительно. Он поверил. Хотя внутри знала: страх не за ребёнка. За себя. За возможное бесплодие. За полную никому не нужность в тридцать один год. За зря потраченную жизнь, потому что дальше – ничего, кроме тоски старой девы и медленно тянущихся лет, которые нет сил пережить, и, тем более, нет сил умереть.
А что, если бы Сергей ушёл? Как он уже уходил, тогда, в самый первый раз, бросив её возле здания заводоуправления? Иза знала: ничего. У неё просто не было сил за него бороться. Тем более, что знала: мыслями он далеко и ей не принадлежит. Что же теперь? Да ничего. Нужно жить. Как-то – жить. По обстоятельствам. Жизнь длинная. Нужно, чтобы тебя на неё хватило.
Изольда отдала сестричке малыша. Сдоилась. Легла на кровать. Нашла позу, в которой швы саднили меньше всего, и немедленно уснула. Без сновидений и тревог.
* * *
Тот же, ради кого всё это, кого пока не нарекли именем, спал. Ничто не болело. Непривычной была лишь новая обязанность – дышать. Но он уже привык. Если на тебе нет проклятья Ундины, то о дыхании думать не нужно. Теперь же он должен был просто есть и спать, спать и есть. В этом заключалась его работа. Откуда-то он знал, что свою работу следует делать хорошо. Простившись без сожаления с прошлым «я», не обретя «я» будущего, жил настоящим. Жил мгновением. Ведь он мог позволить себе такую роскошь.
Будем честны: далеко не каждый способен последовать его примеру.
8
Детская коляска, сделано в Дрездене (искаж. нем.).