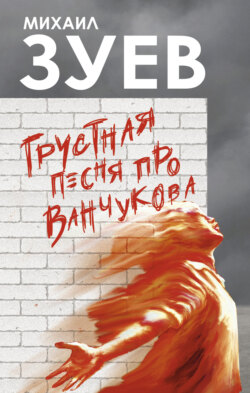Читать книгу Грустная песня про Ванчукова - Михаил Зуев - Страница 12
Часть первая
Глава 7
ОглавлениеОт раскалённых чугунных батарей и сосредоточенной мыслительной деятельности тридцати с лишним молодых тел в ярко освещённой классной комнате перекатывалась душная влажная жара, стекавшая меленькими капельками по студёным оконным стёклам. С предпоследней парты в левом ряду у окна Ванчуков со скукой наблюдал, как похожие на огромные кегли, обвязанные страховочными ремнями да укутанные в мешковатые тулупы и шапки-ушанки с болтающимися тряпичными ушами на ветру, жонглирующем ветвями голых деревьев, дворники-высотники с помощью такой-то матери – впрочем, отсюда не слышной – и широченных двуручных лопат скидывали с крыши кирпичной хрущёвки лежалый, намокший и утрамбованный обнаглевшей весной снег. Своё сочинение он закончил уже минут как пятнадцать. Затем неторопливо, особо не скрываясь, почёркал ошибки Серёге Панову и дописал ещё пять абзацев, чтоб там не только на «трояк», но и на «четвёху» нормально потянуло. Оставалось ещё как-то прожить в предлагаемых обстоятельствах минут пять-семь. Ясно, что кроме созерцания дворников больше заняться было нечем.
Затренькал звонок с шестого урока.
– Седьмой «А», всё, всё, время вышло, сдавайте, сдавайте работы! – включила сирену классрукша Иннушка-Арлекинушка.
Панов сгрёб здоровенной правой лапищей свою и ванчуковскую тетради, открытой левой ладонью шлёпнул сидящего впереди Чиву по мясистому боку:
– Чивас, передай в президиум!
Плотный шкафчик с вросшей в плечи головой без шеи, Чива, оторвал спину от спинки стула, чуть подался вперёд; не оборачиваясь, завёл правую руку за спину, пощёлкал кистью, изображая страусиный клюв. Если б Чивас сейчас удосужился пойти устраиваться на работу в образцовский театр кукол, его бы наверняка приняли «с распростёртыми», прямо тут и без экзаменов. Панов запихнул обе тетради в клюв. Клюв кивнул отсутствующей головой и скрылся вместе с тетрадями под партой.
– Олька, на картинг пойдёшь? – спросил Панов.
– Не-е-е, – улыбнулся Ванчуков, – сегодня на лекцию.
– Что, вечорка твоя интереснее, чем винты крутить?
– Да нет, Серёнь. Всё интересно. Просто у меня сегодня лекция.
– Ладно, давай петушка, – добродушно протянул Ольгерду руку увалень Панов, бессменно возглавлявший правый фланг на построениях на уроках физкультуры.
Скользя каблуками, размахивая для равновесия потёртым портфелем, Ванчуков в фигурном заносе вылетел со школьного двора на узкую улочку. Слева по ходу, от шумящей за забором кондитерской фабрики, ошеломляюще вкусно пахло горячим, только что испечённым бисквитом. Справа, из хоздвора ипподрома, как всегда, пасло[12] навозом. Широченные ворота пожарной части были открыты настежь. Походя, Ванчуков заглянул внутрь. Солдатики драили, ополаскивая из шлангов, две нарядные красные большие пожарные машины.
– Эй, пацан, сигареты есть? – спросил Ванчуков ближайшего солдатика. Пожарное отделение обслуживало московскую табачную фабрику «Дукат».
– Двацть-кпеек, – безразлично ответил тот.
Олик достал из брючного кармана два десюлика:
– На.
Солдатик скрылся за внутренней дверью гаража. Через полминуты вернулся со свёрнутым из газеты небольшим кулёчком, протянул Ванчукову. Ольгерд заглянул внутрь: там россыпью валялись штук двадцать, может, тридцать, некондиционных сигарет разной длины, с криво обрезанными фильтрами, а то и вовсе без. Самая длинная и кривая – сантиметров двадцать. «Ничего, рубану пополам, за две сразу сойдёт», – подумал Ванчуков. На ходу курить по малолетству стрёмно: прохожие могли настучать по шапке. Поэтому решил отложить удовольствие до дома: три минуты ходу.
Шестнадцатиэтажка воодушевляюще благоухала мытыми полами, свежей масляной краской, остро-пряным лаком, горькой битумной смолой. Серую панельную башню сдали только-только, два месяца назад. Ванчуков уважительно пару раз топнул у входа в подъезд, чтоб слетела с ботинок тающая холодная каша, зашёл в огромный застеклённый от пола до потолка вестибюль, поднялся маленькой четырёхступенчатой лесенкой к лифтовым дверям. Лифтов было два – двухстворчатый пассажирский и с широченной дверью грузовой.
Ванчукову нравился грузовой. Он второй раз жил в доме, где был лифт. В городе детства дом имел четыре этажа, и никаких лифтов там положено не было. Первый раз в доме с лифтом он жил за границей, и было это очень недолго. Теперь же Ванчуков по несколько раз на дню ездил на новеньких лифтах и получал от этого настоящее удовольствие.
Нажал кнопку вызова. Сделано было по уму: лифтов два, а кнопка одна. Кнопка приятно залипла в углублении, еле слышно загудела. В ожидании Олик остановился напротив грузовой двери. Но подошёл пассажирский. Затарившись в тесный пенал кабины, Ванчуков пхнул пальцем чёрную кнопку с ослепительно белыми цифрами «раз» и «два». Кнопка мягко спряталась в углубление, залипла, лифт закрыл двери и едва слышно поехал вверх. В кабине было чисто, как и во всём доме. На пол в новом лифте пока ещё никто не плевал, нецензурных слов по стенам отвратной шариковой ручкой не писал, кнопок зажигалкой не поджигал.
В полутёмном коридоре на двенадцатом дверь квартиры с двумя прилепленными – на счастье – семёрками нескромно сияла свежей фанерой. Родители обойных и замочных дел мастеров вызвать не успели. Ванчуков щёлкнул единственным хлипким замком, отшлюзовался из подъездного коридора в прихожую. Вытер ноги. Дёрнул болтавшуюся, как хвост Иа-Иа, верёвку выключателя. Выключатели были дерьмовенькие: внизу, на первом этаже у входной двери, уже успели повесить рукописное объявление: «Заменяем выключатели с верёвками на клавишные». Хитрый ненадёжный приборчик громко щёлкнул. Чугунный фонарь-колокольчик с надписью Vana Tallinn неярко вспыхнул.
То была обычная «распашонка». Дешёвые обои в блеклый цветочек по стенам. На полу плохо отциклёванная, скупо и небрежно лакированная паркетная плитка, уже местами пошедшая сероватыми пролысинами. Вешалка, стул; оклеенный казённой «под дерево» плёнкой шкаф-пенал справа от двери. Налево – большая комната, прямо – кухонька, направо – коридор с дверью в маленькую квадратную комнатёнку, бывшую теперь гнездом младшего Ванчукова, две двери санузла и дверь в родительскую спальню со входом на лоджию.
Ванчуков снял мокрые ботинки, вытер подошвы специально для этого дежурившей в прихожей тряпкой. Надел тапки; не снимая куртки, прошёл коридором, спальней и, пригнувшись, чуть ли ни вприсядку, вышел на лоджию. Там примостился на низенькой табуреточке – из детства; сел так, чтобы его не было видно за балконным заграждением. Маскировка объяснялась просто. Мать работала в соседнем здании, прямо напротив. Из окна её рабочей комнаты балкон двенадцатого этажа просматривался как на ладони. Конечно, вряд ли она стала бы специально наблюдать за своим балконом, но картина с нагло дымящим на балконе тринадцатилетним сыном точно бы имела для него далеко идущие последствия. А последствий, как и других неуместных и неумных проявлений родительского внимания, Ванчукову категорически не хотелось.
Покопавшись в купленном у барыги-пожарника кульке, нашёл самую не кривую, самую похожую на кондиционную сигарету. Закурил с наслаждением. Дым пускал понизу. Пепел стряхивал в запрятанную за наваленные коробки полулитровую стеклянную банку. Докурив, бычок аккуратно затушил. Взял банку, зашёл в квартиру, открыл дверь туалета, поднял крышку и отправил содержимое банки в канализацию. Банку вернул на место.
Спору нет, курить в тринадцать нехорошо. Переходя к практике вопроса: как это объяснить тому человеку, кто с пелёнок видит родителя не выпускающим сигареты изо рта, кто живёт там, где вся квартира изо дня в день по вечерам клубится сизым дымом? Поэтому отец решил так: Ольгерд, делай что хочешь, но мать не нервируй. Ванчуков и не нервировал. Себе дороже.
* * *
Детство Олика кончилось внезапно. В этой кончине были две составляющие. Та, что Ванчуков знал, и та, которую от него стыдливо скрывали. Знал же он лишь то, что семья: отец, мать и он сам – срочно, как на пожаре, прямо в новогодние праздники, с семьдесят четвёртого на семьдесят пятый, сорвалась с места и спешным образом переехала в Москву. Что за этим стояло, ему никто не удосужился объяснить. Хотя, если бы и объяснили, вряд ли бы он что понял: время понимания для него пока ещё не настало.
* * *
Вяч Олегыча Барышева, незадолго до этого получившего непосредственно из рук генсека звезду Героя соцтруда за выдающиеся успехи приморского завода, год назад с солидным повышением перевели в союзное министерство чёрной металлургии. Не дожидаясь, пока запах его пролетарских папирос выветрится из кабинета, новый директор, бывший из «партийцев», главного инженера Сергея Фёдоровича Ванчукова стал, не стесняясь, жрать без соли. Точно так, как когда-то сбежавший буйный психиатрический собирался сожрать хирурга, главного врача Михаила Ивановича Пегова.
Ванчуков переживал тяжело, принимая близко к сердцу. Слишком близко. Посаженный работой и куревом почти уже шестидесятилетний орган не выдержал. В предынфарктном состоянии Сергей загремел в блок интенсивной терапии заводской больницы. Врачи там оказались – дай бог каждому таких врачей. Вытянули. Поставили на ноги. Ванчуков даже не успел как следует испугаться. Вышел, съездил в санаторий. Барышеву звонить постеснялся, но что от него скроешь? Тот позвонил первым. Сказал: Серёжа, дорогой, потерпи немного, зубы сожми – но потерпи хотя бы полгода. Наставление оказалось к месту. Как только Ванчуков вернулся на завод, партийная травля возобновилась с новой силой; всё опять поехало по тем же рельсам.
Тогда старый ушлый Барышев рассердился не на шутку и сделал ход конём: Ванчукова с завода вытащили на день в Москву и молниеносно назначили начальником группы эксплуатации металлургического комбината в Египте, совсем недалеко от Каира. Вылетать нужно было в течение десяти дней. С семьёй.
Жены у Ванчукова не было: по документам до сих пор не разведён с первой. У Сергея Фёдоровича внутри всё похолодело: поездка накрывалась, состав летел под откос. Звонил Лёвочке, чтоб тот договорился с матерью, чтоб помог; метнулся ночным рейсом с посадкой в Сибирь. Евгения дала развод, разговаривать с Ванчуковым не стала. Спешно вернулся на Донбасс, в тот же день в нарушение всех норм зарегистрировал брак с Изольдой. Так у Сергея Фёдоровича появилась жена. Поздравить новобрачных никто не догадался. Ольгерд бы, конечно, поздравил, но он о великом событии в семейной истории поставлен в известность не был.
Сергей Фёдорович, глотая таблетки, поехал в Москву выправлять выездные документы. В ГКЭС[13] бумаги взяли, посмотрели внимательно, сказали: вы едете с женой.
– А сын? – спросил Ванчуков.
– Так то же сын вашей жены, а вам он никто. Не положено, – ответили ему. – У нас в Подмосковье есть интернат. Оставите там. Там их двести человек с лишним, у кого родители за границей. Кормят хорошо, одежда казённая, учат, опять же, спортивные секции…
Изольда встала на дыбы. Ванчуков, как оплёванный, вернувшись, козликом поскакал оформлять усыновление собственного сына. Откуда надо надавили – город всё же небольшой. Оформили в два дня. Позорную бумажку Ольгерда Пегова, которую сам Ольгерд Пегов никогда и в руках не держал, потому что в среднюю школу его запихнули по поддельной копии свидетельства о рождении, где он значился Ольгердом Ванчуковым, заменили настоящим свидетельством на имя Ольгерда Сергеевича Ванчукова. Правда, в правом верхнем углу виднелся сизый штампик «повторное», но кто бы на это – до поры до времени – обращал внимание…
Приехали в Москву, пробегали неделю по делам – прививки, санитарные паспорта, МИДовское разрешение для ребёнка на обучение в школе советского посольства… Номер в гостинице «Россия» был просторный, двухкомнатный. Мать говорила, стоит кучу денег. Ванчукову нравился номер, буфет на этаже, где кормили вкусно пахнущими копчёными сардельками, вообще нравилась вся гостиница. Нравится ли Москва, он понять не успел, но Красная площадь, Калининский проспект и улица Горького пришлись Олику по нраву безусловно. Как и метро, благоухающее керосином, гудящее из тоннеля ветром перед прибывающим поездом. Ещё Ванчукову понравился взрослый дядька, с которым его познакомили. Дядька тоже был в Москве проездом, звали его Лев Ванчуков, и он оказался Оликовым братом.
Ольгерд обалдел от счастья. Он всегда думал, что один на свете – и вдруг такое!.. Лев Сергеевич взял Ольгерда Сергеевича за руку, и они отправились гулять по Москве, есть мороженое, кататься на каруселях в Парке культуры, а под конец дня завалились в кино «Зарядье», что было прямо под гостиницей. Олик пришёл в номер и упал спать без задних ног.
* * *
…Ванчуков открыл холодильник, выцепил оттуда ковшик с супом, кастрюльку варёных сосисок с макаронами, врубил электроплиту «Лысьва» и принялся разогревать не особо изысканный, но вполне сытный обед. Главное было, чтобы не подгорело – с электрическими конфорками он с непривычки управлялся плохо.
Закинув в себя «полусухой» паёк, Ванчуков снял школьную форму, надел немодные, но чистые брюки и нелюбимый свитер материной вязки. Школьный портфель аккуратно поставил в своей келье на пол между письменным столом и шкафом, взял со стола небольшую элегантную кожаную папку, скрывавшую в себе общую тетрадь на девяносто шесть листов и три ручки, одна из которых была японской, перьевой, к тому же с золотым пером. Сигареты переложил в целлофановый пакет – чтобы не пахли, спрятал в комод, в самый дальний угол, где громоздились коробки с не используемой сейчас летней обувью. Одну сигарету положил в папку. Оделся, спустился вниз, вышел из подъезда и взял курс на станцию метро. Идти, средним шагом, было минут пятнадцать, а спешить сегодня некуда. И так вышел с запасом.
* * *
«Ил-62» на Каир был большой, наполовину пустой. Летели пять часов. Последние полчаса, когда кончилось море и началась Африка, Ванчуков не отлипал от иллюминатора. Но ничего особенного под крылом он не разглядел. Саванна как саванна, где жёлто, где зелено. Нил оказался широк, цвет имел грязной осенней деревенской лужи.
На первые три дня поселили в убогой гостинице, под самой крышей. Жара, крики муэдзинов с минаретов, специфичная ближневосточная уличная вонь, к которой добавлялся вкусный запах жареной курятины: внизу на улице стоял гриль-автомат, к которому постоянно выстраивалась очередь. Куры были советские, замороженные, потому дешёвые. Их, не размораживая, жарили и совали в протянутые руки голодных местных граждан. В первую же ночь Сергея Фёдоровича, Изольду Михайловну и Ольгерда Сергеевича сожрали комары и москиты. Спасаться было нечем. Приехавший наутро помощник отца, зная специфику, притащил с собой пару бутылок водки – для протирки кожи.
Отца увезли на завод, а Ольгерд с матерью пошли по району – осваиваться. Осваивать в районе было нечего. Лавочки, киоски, грязь, нищета. То тут, то там стояли наполненные водой бочки с намертво пришпандоренными к ним на цепочках алюминиевыми штампованными питьевыми кружками. Вернулись в гостиницу. Через час пришла советская женщина, чья-то там жена из заводоуправления, и повела на «виллу».
«Виллой» назывался комплекс из двух зданий, где находились конторы советских загранучреждений, библиотека, кинозал, столовая и спортивная площадка. В кино показывали советские фильмы и мультики. По вечерам на «вилле» было негде яблоку упасть: многие советские экспаты, кому было некуда пойти, шли сюда. Гудящая «вилла» напоминала со стороны советский дом отдыха; только за забором была чужая земля. На «виллу» пускали всех. Много было «жён», тех, кто вышел замуж за местных. Много смуглых детей, чей родной язык был арабский, но по-русски они тоже говорили – кто как.
Есть хотелось страшно. В советской столовой было дёшево и вкусно. Со стены знакомым прищуром в тарелки гостей заглядывал Ильич. Деньги были смешными, как фантики, с непонятными цифровыми символами. Монеты так и вовсе алюминиевые, тонкие, совсем не похожие на основательные советские медные и никелевые. Здесь Ванчуков впервые попробовал банан. До этого он был знаком только со словом, его обозначающим.
Ванчуков успел привыкнуть к гостинице, но тут сказали – съезжаем. Всех троих погрузили в машину и повезли на квартиру. Квартира была рядом с зоопарком, большая, в четыре комнаты; располагалась на первом этаже, имела два отдельных входа с улицы – парадный и чёрный. По ночам население зоопарка страшно орало и мешало спать.
Через два дня переехали уже по постоянному адресу. Дом оказался на Замалеке, в окружении дипломатических резиденций. Семь этажей. Двухэтажная квартира главного инженера Ванчукова располагалась на самом верху, на шестом и седьмом. Два балкона плюс терраса, на которой легко можно было играть в бадминтон. Лестница на второй этаж из гостиной, полукругом, ажурная, нависающая над комнатой. Это было красиво. Так красиво, что и представить раньше себе было невозможно. Отцу было положено два автомобиля с шофёрами: «мерседес» для езды по городу и «джип» с брезентовой крышей для передвижений по огромной заводской территории.
Первого сентября Ванчуков пошёл в школу. Детей с остановок в городе забирал школьный автобус, он же отвозил после уроков обратно. Остановок было размечено штук десять, они располагались максимально близко к адресам поселения учеников. Советская посольская школа была выстроена англичанами. Двухэтажная, с кондиционированием воздуха, раздвижными окнами, индивидуальными партами на одного, литыми креслами, борющимися с детским сколиозом, с собственным стадиончиком и небольшим жилым домом для учителей. Ванчукову особенно понравились кресла: после крашеных зелёных донбасских школьных деревянных лавок, изрезанных ножами и исписанных разными словами, не складывающимися в предложения, серые берегущие осанку кресла как бы говорили: «Ты попал в другой мир…»
* * *
Ванчуков свернул налево, пошёл узкой улицей, пропорол насквозь два кривоколенных дворика, попав на Ленинградский проспект в самом его начале, у моста-путепровода. По скользкой, крупной солью сдобренной лестнице красного мрамора углубился в переход под перронами пригородных электричек Белорусского вокзала. Затем, прыгая через две ступеньки, взбежал наверх, на вокзальную площадь, и быстрым шагом двинулся в сторону «Белорусской»-кольцевой, маяковавшей красной литерой «М» на другой стороне площади. Путь до ВДНХ обычно занимал минут двадцать, от силы – двадцать пять.
* * *
… Родители между собой стали периодически говорить о деньгах. Произошло это после того, как выданные отцу на руки двести египетских фунтов подъёмных за три недели улетели в ноль расходами на еду и ещё на что-то по мелочам. Раньше для Ванчукова слово «деньги» не означало ничего, кроме привычного сочетания из шести букв, в котором не смог бы сделать орфографическую ошибку даже распоследний идиот. Теперь же у денег появился смысл, и он был неприятным.
Снять двухэтажную квартиру на Замалеке стоило девяносто местных фунтов в месяц. Эти деньги платил домовладельцу ГКЭС, в руки их отцу не давали. Два автомобиля с двумя водителями и бензином оплачивал завод. Всё остальное стоило денег, которые стремительно заканчивались, не успев начаться. Зарплата отца – триста фунтов в месяц. На них нужно было умудряться как-то жить и ещё откладывать, чтобы поменять на чеки Внешпосылторга (что это такое, Ванчуков не знал), на которые по приезде в Союз можно покупать что-то в «Берёзке» (что это за «дерево», Ванчуков тоже не знал, но мать популярно объяснила).
Однажды вечером старший Ванчуков пришёл домой чернее тучи. В тот день он случайно услышал то, что знать ему не полагалось: сколько за него владельцы металлургического комбината каждый месяц отчисляли в советский ГКЭС. Это были пять с половиной тысяч фунтов. Египетский фунт в семьдесят третьем году равнялся двум с половиной долларам США. Родная страна получала за «командировочника» Ванчукова пять с половиной тысяч, выдавала ему на руки за всё про всё – триста, щедро платила за его буржуазную квартиру – девяносто. Отцу, как и всем «командировочникам», полностью сохраняли зарплату в Союзе. То было около семисот рублей в месяц, но деньги поступали в советскую сберкассу, и толку от них здесь, под белым солнцем пустыни, не было никакого. Даже если пересчитать советскую зарплату в неконвертируемых рублях по официальному курсу в шестьдесят конвертируемых инвалютных копеек за доллар, выходило меньше тысячи двухсот; ну а в египетских фунтах так и вообще жалкие четыреста восемьдесят. Получалось, что отцу в сумме, здесь и в Союзе, выплачивали восемьсот семьдесят фунтов. Оставшиеся четыре тысячи шестьсот тридцать египетских фунтов СССР забирал себе – очевидно, за услуги. Вот так выглядел развитой социализм для советских граждан, кому пришлось работать за границей.
Отец выпил водки. Посидел молча. Потом выпил ещё. Затем кратко сказал всё, что он думает о развитом социализме, руководящей и направляющей роли партии, родной стране и прочих связанных с этими вопросами темах. Говорил тихо, по большей части нецензурно. Олик всполошился, подсел поближе, в порыве сострадания взял отца за руку.
– Мы рабы, – еле слышно бесстрастно сказал Сергей Фёдорович. – Все. До единого. Обыкновенные рабы. «Родина слышит, родина знает, где в облаках её сын пролетает».
К слову, Ванчуков больше никогда не видел отца таким, даже не сказать «расстроенным»: оплёванным и прибитым. Наутро мать сказала Ванчукову, что теперь она понимает, почему у венгров, живущих напротив, в такой же двухэтажной квартире, есть домработница и кухарка. Хотя венгр всего лишь начальник цеха, а отец – начальник всей службы эксплуатации комбината. Венгров их родная страна в таких масштабах не обирала. Через день мать сказала, что нам нужно решать – или будем нормально питаться и тратить на еду всё, что отец зарабатывает, или же будем «экономить». Отец посмотрел смурно, ответил: «Не дождутся от нас голодных обмороков».
Голодные обмороки среди советских спецов случались частенько. Схема приезда для рядовых сотрудников комбината была незатейливой. Семья: муж, жена, дети. Старших детей не выпускали: или оставляйте на родственников, или в интернат. Младших, до четвёртого класса включительно, можно было взять с собой. Люди прилетали, их селили в комбинатском посёлке, рядом с заводом. Посёлок был советским до мозга костей. Ряды параллелепипедов-пятиэтажек, стоявших за забором прямо посреди пустыни. Вентиляции нет, кондиционеров тоже. Школа – до четвёртого класса. Клуб. Магазинчик. И пустыня за забором.
Раз в месяц на руки выдавали скудную зарплату в местной валюте – те же фунтов двести пятьдесят-триста. Работали только мужья, найти работу для жён считалось большой и неосуществимой удачей. Бо́льшую часть полученной суммы тут же несли в ГКЭС, чтобы конвертировать в фантики под названием «чеки Внешпосылторга». Кто без детей, жили вдвоём на пятьдесят пиастров в день. Это по две хлебные лепёшки на каждого и несколько стаканов чая с сахаром. Раз в неделю – курица-гриль. Мужей на работе днём кормили в столовой бесплатно. Женщины сидели по домам. Тем, кто продержится два-три года, можно было попытаться привезти домой сумму, достаточную для покупки в «Берёзке» автомобиля. Для тех же, кто приехал с маленькими детьми, шансов что-то накопить не было вообще. Но пытались, морили голодом себя и малышей. Истощение, постоянные обмороки. Дальше: заключение врача – алиментарная дистрофия. И высылка домой в Союз.
А на их место уже были готовы – трусы пузырём – ехать другие. Попытать призрачного счастья загранработы. А вдруг?..
* * *
На идущем вверх длиннющем эскалаторе станции «ВДНХ» Ванчуков было встал как полагается – справа, но не вытерпел. Шагнул влево и стал подниматься, помогая эскалатору твёрдыми, сильными, надёжными шагами. Всякий раз, когда он оказывался на этом эскалаторе, его охватывало странное чувство волнения и лёгкого трепета; чувство предвкушения чего-то такого особенного и важного, с чем в жизни он никогда не сталкивался раньше. Подгадав шаг так, чтобы не попасть под удар пушечным ядром вылетевшей ему навстречу метрополитеновской выходной двери, Ванчуков проскользнул в широко открывшийся на улицу сцилло-харибдный дверной проём и упруго поспешил к подземному переходу на другую сторону широкого проспекта. Он бы смог проделать оставшийся путь с закрытыми глазами. И дело здесь не в короткой, десятиминутной, дороге, сначала по проспекту Мира, а потом, под девяносто градусов, по центральному бульвару каждым летом тенистой и цветущей, а пока – голой и скользкой улицы Кибальчича. Речь – о совсем-совсем другом…
* * *
Шестой класс в посольской школе оказался совсем небольшим, человек двенадцать. Кормили на большой перемене вкусно: давали завёрнутый в прозрачную плёнку сэндвич из белого хлеба с пахшей лёгким дымком ветчиной и роскошным дырчатым сыром. И сэндвич, и прозрачная плёнка были для Ванчукова в диковинку. В донбасском школьном буфете он привык к бутербродам по десять копеек штука: на свежем, часто ещё тёплом, сером хлебе (очень везло, если попадалась горбушка) с краковской колбасой лежал сыр; не дырчатый, а толстым шматом – плавленый. Рулонной тянущейся прозрачной плёнки он раньше вообще никогда не видел. Ещё давали огромные бананы, крекеры индивидуальной фасовки и кофе с молоком. Кофе было не в стаканах, а в удобных кружках с надписью «Egypt» и рисунком, состоявшим из пирамиды, пальмы, моря и верблюда. Кстати, тогда же Ванчукова раз и навсегда приучили, что говорить нужно не «кофе было», а «кофе был».
Знаний в посольской школе не давали никаких. Учителя на уроках с учениками просто разговаривали «о том о сём», домашних заданий выдавали самый минимум. Ванчуков моментально из донбасской помеси хорошиста с отличником стал отличником круглым. Хорошо, что ему всё же хватило ума понять причину случившегося преображения, не поддавшись вполне возможной гордыне.
Но существовал один предмет, лишивший Ольгерда сна и покоя, стоивший ему едучих сомнений и горьких слёз.
Английский язык. На весь класс были двое откровенных дураков, кто языка не знали: мальчик на последней парте в ряду у стены и – Ванчуков. В его донбасской школе под видом английского, очевидно, преподавали и изучали что-то другое. Все остальные десять соклассников английского тоже «не знали», но «не знали» иначе: им знать было ни к чему, они на нём жили. Разговаривали легко и свободно. Часами. Читали и писали. Они вообще не понимали, где кончается русский и начинается английский, потому что все, в силу тех или иных обстоятельств, были билингвами. Бывая иногда в гостях у Юры Глухова, сына собкора «Правды» по Ближнему Востоку, чья квартира находилась прямо в жилом корпусе во дворе здания посольства, Ванчуков не раз видел и слышал, как глуховская мать легко и непринуждённо переходит с ним и с его сильно младшим братом на бойкий пулемётной скорости английский, даже не отдавая себе отчёта, очевидно, на каком языке она сейчас говорит с детьми. Юрка этому тоже не придавал значения; ему было не надо ничего понимать. В будущем для него других вариантов, кроме МГИМО, ИСАА, «торезника» или журфака МГУ, не существовало по определению. Этих аббревиатур Ванчуков в то время совсем не ведал, с ними он познакомился позже.
Юра Глухов не был плохим парнем. Юра Глухов не был парнем хорошим. Он просто был другим парнем. И таких «других» Ванчуков раньше никогда у своего донбасского синего моря не встречал и даже не предполагал, что они существуют – в той же самой реальности, в какой жил он сам. Что-то подсказывало Ольгерду, что реальности у них всё же разные. В той реальности, из которой происходил Глухов, не жили втроём на триста фунтов в месяц и, тем более, не падали в голодные обмороки на полы хрущёвских пятиэтажек, выстроенных среди бескрайних египетских песков на задворках металлургического комбината.
Хотя была, существовала ещё более жуткая реальность. Мать часто посылала Ванчукова за хлебом и в овощную лавку. Олик клал в карман немного денег и шёл. В магазинчиках его уже знали. Ольгерд брал пакеты с лепёшками и багетами, шёл дальше. На этот раз у зеленщика пришлось взять много, рук не хватило. Зеленщик присвистнул, подбежал мальчишка, грязноватый, но в белой длинной рубахе, лет семи-восьми. Зеленщик что-то гортанно ему клёкнул, тот кивнул, выхватил пакеты со снедью из рук Ванчукова, поклонился – мол, пошли, я за тобой. Вышли, двинулись в сторону дома. Привратник с улыбкой отворил подъезд, зашли внутрь. Ванчуков открыл дверь лифта, та широко распахнулась. Ванчуков не рассчитал, открыл слишком резко. Мальчишка стоял рядом, ему прилетело рамкой двери прямо по голове. Раздался глухой стук, как по арбузу. Ванчуков обмер, потом в ужасе по-русски закричал:
– Прости, прости меня! Больно?!
Пытался потереть голову ребёнка, но тот мгновенно отстранился. Ванчуков зашёл в лифт, оставив дверь открытой, сказал: – Come on in! – махнул рукой. Мальчишка, отрицающе мотнув побитой головой, спросил:
– What floor?
– The upper one, – машинально, себя не контролируя, отозвался Ванчуков. Мальчишка кивнул, не выпуская нагружавшие его сумки и пакеты, повернулся спиной, отклячил задницу и толкнул ею дверь лифта снаружи. Дверь щёлкнула. Ванчуков сомнамбулически нажал кнопку своего этажа.
– Где всё? – спросила мать.
– Там, – неопределённо махнул рукой Олик.
Минуты через полторы на кухне в дверь чёрного хода постучали. Мать открыла. На пороге стоял запыхавшийся тяжело дышащий мальчишка, весь обвешанный пакетами с едой.
– They don’t… don’t allow us to use elevators[14], – по-взрослому гордо сказал он, обращаясь к Изольде. У той задрожала нижняя губа; вместо положенных пятнадцати пиастров бакшиша Иза дала грязнолицему арапчонку полтинник.
Ванчуков и сам отвернулся. Он чувствовал себя так, словно это ему прилетело никелированной блестящей лифтовой дверью по башке.
* * *
Каждый урок английского протекал совершенно одинаково, без вариантов. В класс впархивала красивая молодая благоухающая чем-то французским посольская жена Анна Петровна, щебетала: «Good morning, guys!»[15], после чего дурак на парте у стены и дурак Ванчуков из учебного процесса выпадали, словно две Алисы, провалившиеся в кроличью нору. С ними не говорили, их ни о чём не спрашивали – а о чём можно говорить и о чём можно спрашивать дураков?! Все остальные наперебой галдели между собой и с учихой. То вопросы, то ответы, то паузы, то песенные куплеты («In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines…»[16]), то взрывы хохота… Иногда из гущи гвалта в уши Ванчукова влетали отдельные знакомые слова, но это только ещё больше забивало ванчуковскую самооценку ещё дальше в щель между полом и плинтусом.
Анна Петровна, поняв, что дела Ванчукова плохи, отвела его в школьную библиотеку, где строгая библиотекарша, похожая гонором на кого-то уж никак не меньше чрезвычайного и полномочного посла – советское посольство было чётко через дорогу от школы – выдала Ольгерду с десяток тонюсеньких учпедгизовских книжек для изучения языка в спецшколах. Каждая книжка содержала по одному-два рассказа или по одной-две сказки на английском. Тексты были оригинальные, написанные носителями языка. Ванчукову особенно запомнились книжечки, содержавшие сказки американских индейцев. После недлинных текстов в каждой книжечке начиналась словарная часть, где по сноскам, скрупулёзно, терпеливо были выписаны все непонятные слова и выражения. Выписаны они были хитрым образом: часть давалась сразу в переводе на русский, а часть – объяснялась другими, более понятными – очевидно, так сочли составители – словами на том же английском. Домашнее чтение пяти-семи страниц текста занимало у Ванчукова не меньше трёх часов. Он читал, смотрел в словарную часть, выписывал слова, добавлял к ним переводные соответствия. Тут же всё забывал и опять смотрел на текст, как широко известный герой русского народного эпоса смотрит на новые ворота. Самое грустное заключалось в том, что никакого понимания языка на следующий день это не добавляло.
Ванчуков заплыл слезами. Наверное, нехорошо плакать взрослому мальчику, но… Сергей Фёдорович посмотрел на безобразие и стал вечерами на час-другой приглашать домой свою переводчицу, грузинку Аду. Ванчуков-старший по-английски знал пять фраз, из них две нецензурные. Ада знала всё остальное. В отличие от посольской фифы Анны Петровны Ада сразу стала с младшим Ванчуковым разговаривать, не обращая внимания на его мычание и ошибки. На третий вечер Ванчуков заговорил. Не поверил себе. Ада рассмеялась, поправила, подыграла, и Ванчуков заговорил увереннее. Жизнь стала налаживаться.
На следующий день на уроке Ванчуков задвинул две тирады, которые накануне с ним бегло отрепетировала Ада. Класс замер, у Анны Петровны отвалилась нижняя челюсть, и его тут же, как ни в чём не бывало, приняли в общую беседу. Ванчуков нёс чушь, лепил ошибку на ошибке, но из-под плинтуса вылез и больше за всю жизнь не вернулся туда ни разу.
Ванчуков вдохнул полной грудью и зажил полной жизнью. Захотел джинсы, настоящие, американские. До этого его тощая задница знала только советские холщовые «чухасы». Американских фирменных джинсов на клёпке с тройным швом было везде навалом, стоили от тридцати пяти до пятидесяти фунтов. Мать вздохнула, прикинула, сказала, месяца за три накопить реально. В жизни Ванчукова появилась цель, которую можно было достичь в обозримом будущем. Но случилась «Война Судного дня».
Мужчины оставались, «уплотнялись», селясь для безопасности – никто не знал, что будет дальше – вместе по четыре-пять человек в квартире; женщины и дети подлежали немедленной эвакуации. Ванчуков с матерью самыми последними зашли на трап самого последнего транспорта, отправлявшегося в Союз с военного аэродрома под Каиром. «Ил-18» только что сел, моторы погасил на полчаса. Дозаправился и пошёл обратно. Стюардесс в полёте не было. Их заменяли улыбчивые молодые люди в белых рубашках, чёрных галстуках и серых пиджаках.
Летели долгим кружным маршрутом.
– А почему так длинно? – спросила Изольда.
– Потому что через Турцию было бы на три часа меньше, да на три дня дольше. Не дали разрешения на пролёт над территорией, – улыбнулся улыбчивый.
– А что это за фигуры вдали за иллюминатором? – спросил Ванчуков.
– Это наши истребители. Их три. Слева и справа, – снова улыбнулся улыбчивый, – ещё один сверху, ты его не увидишь.
– Зачем? – спросил Ванчуков.
– Хороший вопрос, мальчик, – улыбчивый больше не улыбался. – Защитить не защитят, – замолчал, подбирая слова. – Но того, кто посмеет, в живых не оставят. Там без шансов.
Над Югославией, ближе к Любляне, истребители покачали крыльями, задрали носы, опустили гузна и пошли на снижение.
– На базу уходят наши ребятки, – сказал улыбчивый. – Дальше будет без происшествий, – он снова улыбался.
В Жулянах дождило. Мгновенно подогнали трап. На поле играл военный оркестр. Каждой спускавшейся по трапу женщине офицер с капитанскими погонами дарил красную гвоздику. Солдаты споро подхватывали ручную кладь и спящих малышей. Изольда впервые за всё время разрыдалась. А Ванчуков вдруг понял, что родина бывает разная. И теперь перед ним была такая, которая не то что не отберёт у твоего отца несколько тысяч фунтов в месяц – а не раздумывая оторвёт за жизнь твоей мамы и за тебя любую голову. Этого кратко мелькнувшего в себе откровения Ванчуков потом никогда не забывал.
* * *
Коротко посмотрев направо, Ванчуков перебежал асфальтовую нитку дороги. За забором виднелись два пятиэтажных институтских учебных корпуса, химический и биологический. Лекция была назначена в биологическом, на втором этаже. Ванчуков снял куртку, повесил в пустой гардеробной, поднялся по лестнице. Дверь в аудиторию открыта. Почти все девчонки и мальчишки из первой группы вечерней биологической школы были в сборе. Олик раскланялся с сидящими. Плюхнулся на скамью, расстегнул папку, достал общую тетрадь и своё главное богатство: японскую чернильную ручку с золотым пером. Открыл тетрадь на чистой странице, свинтил колпачок с ручки.
В аудиторию вошёл молодой стройный невысокий брюнет в роговых очках с тяжёлыми линзами. Его светлая улыбка летела впереди него.
– Привет, ребята! – сказал студент четвёртого курса биофака Саша Козак. – Все в сборе?
Староста первой группы, сидевшая на первом ряду, кивнула.
– Ну, тогда начинаем! – довольно сказал Саша, включая проектор. – Кто там у двери? Погасите первый ряд ламп, пожалуйста.
12
«Сильно и неприятно пахло», «воняло» – молодёжный сленг 1970-х.
13
ГКЭС – Государственный комитет СССР по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
14
Они… они не разрешили нам ехать в лифте (англ.).
15
Доброе утро, ребята! (англ.)
16
В городе, где я родился, жил человек, плававший по морям; и он рассказал нам о своей жизни в стране подводных лодок (цит. из песни Yellow Submarine группы The Beatles) (англ.).