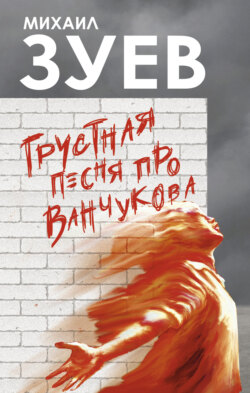Читать книгу Грустная песня про Ванчукова - Михаил Зуев - Страница 15
Часть первая
Глава 10
ОглавлениеПоследним уроком была алгебра. Занудная Никитишна, облачённая в мышиного цвета вязаную кофту, по очереди мучила девчонок у доски. Она вообще девчонок почему-то не очень уважала.
– Это она их вроде как с наступающим поздравляет! – прошептал Ванчукову Панов. Ванчуков улыбнулся.
Солнце вваливало ярко, хотелось зевать, спать и одновременно не терпелось вскочить, послать всё вот это куда подальше, схватить в зубы портфель и – поскорее на улицу! Глотнуть там, ещё с крыльца, вкусного холодного воздуха, щедро струившегося с высокого чистого неба.
– Леон, слышь, ты сумку взял? – обернулся назад Серёга Панов. Длинный курчавый с точёным профилем и нервными чертами лица красавец, дамский сердцеед Леон скорчил кривую рожу и выразительно покрутил пальцем у виска.
– Ты с дуба рухнул, Пан?! Я же обещал!
– И где?!
Никитишна возбудилась:
– Так! На галёрке! Панов, Леонов! Хотите к доске?! Я вам сейчас устрою такое удовольствие!
– Простите, пожалуйста, Наталья Никитична… – съёжившись, жалобно всхлипнул широкий в плечах детина Панов. – Мы больше не будем…
В классе заржали. Никитишна успокоилась; снова принялась терзать свою жертву.
– Где-где?.. – выждав, прошептал Леон, – в рифму, где! В «трудовую» положил. А то из раздевалки упрут.
– Ма. Ла. Дэц, – кивнул Панов.
Ванчуков полез в портфель, выудил чёрный полотняный мешочек. В мешочке утробно звякнуло.
– Дай! – попросил Панов. Ванчуков протянул мешок. Панов довольно взвесил в руке. – Сколько там?
– Двадцать, и ещё четырнадцать копеек, – гордо ответил Ванчуков.
– Целый капитал!
– Ну да…
Ванчуков собирал деньги с пацанов битую неделю кряду. Кто-то сдавал аж по два-три раза – не хватало карманных за один день. Некоторые тупо пытались соскочить, тогда Ванчуков подключал Пана. С тем шутки плохи: соскок отменялся, не начавшись. Узнав про такое дело, мешочек быстро сшила мать – чтоб не растерялось чего по дороге. Почти всё получилось мелочью, не считая трёх мятых рублёвых бумажек и одной новенькой трёшки. Трёшку притаранил Соломин. Дома он собирал десюлики в бутылку из-под шампанского, потому все десятикопеечные монеты и выгреб.
Никак нельзя в грязь лицом!.. На двадцать третье февраля девки надарили всяких штучек – и брелков, и ручек, и даже жвачек таллиннских, клубничных и кофейных, где-то раздобыли. Комолова, та вообще у отца две пачки польского «мальборо» спёрла, хоть сама и не курит – раздавала потом всем желающим по две штуки в руки… Мужской сортир на четвёртом в тот день благоухал как салон дворянского собрания.
Так что на Восьмое марта хочешь не хочешь, а пацанам нужно было быть на высоте. Сегодня четверг, завтра пятница, седьмое число – последний день. Восьмого, в субботу, праздник; значит, в школу не идём.
– На улице встречаемся, – сказал Пан Леону после звонка. – Олька, пойдём мимо буфета, по бутеру заточим. Жрать охота.
Ванчуков кивнул. Ему тоже хотелось есть.
Только уже в «Детском мире» на Кутузовском стало ясно: денег катастрофически мало. Ванчуков расстегнул куртку, размотал шарф, извлёк из портфеля тетрадь, примостился на широком магазинном подоконнике и стал считать в столбик. Четырнадцать копеек погоды не делают, забыли про них. Дано: двадцать рублей, двадцать две девчонки. Так, в горку ноль, ну это понятно. Запятая. Сдвигаем. Сто девяносто восемь, ага. В горку девятка. Сдвигаем. Двести. В горку девятка. Всё, можно дальше не сдвигать.
– Короче, – поднял голову от тетрадки Ванчуков, – ноль девяносто и девяносто в периоде. То есть, – он снова склонился над тетрадкой, – по девяносто копеек на девчонку, это девятнадцать восемьдесят. Остаётся ещё тридцать четыре копейки. И всё. Можно расщедриться – по девяносто одной копейке на подругу, и тогда двенадцать останется. Приехали. Адиос, амигос!..
Цены на игрушки были самые разные. Куклы стояли такие, что на двадцатку можно было взять пару, а то и вообще одну, если большую. Ещё были какие-то пупсики, зеркальца, кошелёчки, подушечки для иголок… Глаза разбегались, но глаза беде помочь не могли. Девчонок в классе двадцать две, денег на кармане двадцать рублей.
– Вот что, пацаны, – подумав, сказал Ванчуков. – Сами мы не потянем. Нужна помощь.
– Ты о чём? – спросил Леон.
– Нужно, чтобы нам кто-то из продавцов помог, – ответил Ванчуков.
– А чего тут помогать? – не понял Пан. – Сколько пупсики стоят?
– Посмотри, – хмыкнул Леон.
– Ща… – шмыгнул носом Пан и пошёл к прилавку.
Вернулся разочарованным.
– Восемьдесят пять копеек.
– Ну?! – поглядел на Ванчукова и Пана Леон.
– Чего – «ну»? – Пан посмотрел в упор на Леона. – Покупаем пупсов, и все дела.
– Двадцать два? – спросил Ванчуков.
– Двадцать два, – утвердительно кивнул Панов.
– Пан, ты чё, они же одинаковые! – подался вперёд Ванчуков.
– И чё, Олька?..
– Да ничё, – опустил голову Ванчуков. – Мы завтра принесём в класс двадцать два одинаковых пупса, и девки скажут, что мы дебилы.
– Правильно скажут… – пробурчал под нос Леон.
– Не, пацаны. Так дело не пойдёт. Я сейчас! – твёрдым шагом Ванчуков пошёл к прилавку.
– Здравствуйте! Мы пришли за подарками для одноклассниц и не можем выбрать. Вы нам не поможете? – обратился Ольгерд к молодой, лет двадцати, девчонке с серыми глазами и в крупных пепельных кудряшках.
– Мальчик, а сколько тебе подарков нужно?
– Двадцать два.
– О, да ты солидный покупатель! – у сероглазой в кудряшках определённо было хорошее настроение. – Сейчас, подожди минутку. Надежда Николаевна!
На зов появилась женщина постарше, вполне годная в матери не только Ванчукову с товарищами, но и сероглазой.
– Здравствуйте! Мы пришли за подарками для одноклассниц… – начал Ванчуков.
– Вижу, – улыбнулась Надежда Николаевна. – Сколько у вас денег?
– Двадцать рублей и четырнадцать копеек, – отбарабанил Ванчуков; он затвердил сумму, так что заглядывать в бумажку не было необходимости.
– А барышень у вас сколько всего?
– Двадцать две! – сероглазая в кудряшках опередила Ванчукова.
– Тогда, ребята, есть только один выход. Делать лотерею.
– Я понял! – воскликнул Ванчуков. – Мешок, двадцать два фанта, и все подарки по номерам разные! Чтоб никому обидно не было…
– Молодец! – опять улыбнулась Надежда Николаевна. – Я вам сейчас всё подберу.
Вскоре Леон и Пан направлялись к дверям «Детского мира», за две ручки таща до краёв заполненную спортивную сумку. Довольный жизнью Ванчуков забежал вперёд, придержал дверь, чтобы пацанам было удобнее выходить.
– Я пойду, – поднял сумку Леон на выходе с эскалатора «Динамо».
– Сумку донесёшь? – спросил Пан.
– Нет, не донесу! Упаду от истощения…
– Ладно, давай, до завтра.
– Давайте, – кивнул Леон и, навьюченный здоровенной сумкой, попёрся в свой двор.
– Чего делать будешь, Олька? – взглянул на Ванчукова Панов.
– Домой…
– Пошли ко мне. Брат новую бобину записал. Послушаем.
– А кто там?
– На коробке написано, какой-то «даксайд».
– Рубят?
– Не-е, тихо играют, душевно…
– Тогда пойдём! – Ванчуков был несказанно рад, что есть причина и сейчас можно не домой.
– Двинули! – выдохнул Пан.
Здоровенный широкий Панов с мелким узким на его фоне Ванчуковым, словно Тарапунька и Штепсель, взяли быстрый шаг и бодро потопали мимо стадиона Юных пионеров к повороту на Беговую.
* * *
Ванчуков благоговел перед музыкой. Когда исполнилось пять, мать зачем-то отвела в музыкальную школу. Сказала: «На испытание». Может, та древняя скрипка, глубоко запрятанная на дне платяного шкафа, пеплом Клааса постучала в её очерствевшее сердце. Школа была далеко от дома, в десяти минутах пути трамваем – внизу, под горой, ближе к морю, в самом начале центрального проспекта; рядом с бесхозным пустырём, на котором несколькими годами спустя поставили административную девятиэтажку. Но пока что там был пустырь; и пустырь тот Ванчуков любил. Каждый год, весной и осенью, а иногда и летом, на пустыре раскидывали цветастые пахучие шатры посещавшие маленький город цирки-шапито, и туда Ванчукова время от времени водили. Вот почему и пустырь, и исток центрального проспекта оказались для Олика связаны исключительно с положительными ощущениями.
Музыкальная школа наполовину вросла в землю. Подслеповатые оконца подвала – уж точно. Сразу над ними – низкие подоконники первого, чуть выше – окна ещё одного, второго и последнего, этажа. Мать почему-то оробела, в дверях схватила за руку, хоть уж давно так не делала. Вестибюлю не хватало оконного освещения, под потолком – Ванчукову запомнилось – горели тусклые, похожие на цветки-колокольчики, фигурные лампы-торшеры.
Провели в класс.
Там у обычного чёрного пианино (Ванчукову снова запомнилось: лак на деках белёс, мутен, покрыт сетью мелких трещинок, словно какая ажурная паутинка) на винтовой табуретке, не помещаясь, сидела пожилая уютная женщина с необычайно прямой спиной, напоминавшая Надежду Константиновну Крупскую с книжного портрета. В свои пять Ванчуков читал сносно; читать любил и всяких разных портретов в книгах уже насмотрелся, хоть был и мал. Несмотря на кажущуюся уютность, Ванчуков понял: от женщины, точнее – от её пронзительного взгляда, усиленного очковыми линзами, исходила ощутимая опасность.
– Мальчик, – сказала «Крупская».
– Ольгерд… – робко вставила Изольда.
– Мальчик, – чуть поморщившись, не обращая внимания на Изольду, снова сказала «Крупская». – Иди-ка сюда, встань подле инструмента. – Так Ванчуков впервые в жизни услышал слово «подле». Связано ли оно с подлостью, он не знал.
Ванчуков подошёл.
– Лицом ко мне, чтоб мы видели друг друга.
«Зря я, – подумал Ванчуков. – И совсем она не страшная». От женщины едва уловимо пахло хорошими духами.
Ванчуков повернулся.
– Давай постучим по дереву, – серьёзно сказала женщина и тут же выбила по деке пианино несложный ритм. – Повтори.
Ванчуков подступил к инструменту ближе, сжал кулачок правой руки и костяшками пальцев – с непривычки было немного больно – повторил.
– Левой, – попросила женщина. Ванчуков сменил руку.
– Ещё, – сказала женщина после того, как отстучала очередную порцию.
Ванчуков опять повторил.
– Теперь немного иначе. Будем не только отстукивать, но и прихлопывать в ладоши, – спокойно сказала «Крупская» и отбила, чередуя костяшки пальцев с открытыми ладонями, ритм, посложнее предыдущего, с интервалами и синкопами.
Ванчуков запомнил. Повторил, не сбился. Женщина впервые за всё время улыбнулась.
– А теперь попоём. Ты любишь петь? – Ванчуков честно пожал плечами. – Повторяй звуки, – сказала уютная женщина и стала нажимать на клавиши инструмента. Ванчуков вторил голосом; от волнения голос дрожал, несколько раз срывался.
– Не волнуйся, – попросила женщина. – Всё хорошо, – она сделала десятисекундную паузу. – Не волнуешься? – Ванчуков мотнул головой.
– Продолжим…
– У вашего сына абсолютный слух. Примечательно, весьма… – закончив испытание, над оправой круглых очков взглянула в упор на Изольду уютная «Крупская». Ванчуков, как и положено, уже торчал в коридоре. – Мы можем приступить к занятиям с ним без промедления. Итак, по классу какого инструмента вы собираетесь записать мальчика?..
То был первый, одновременно – последний раз, когда Ванчуков переступил порог музыкальной школы. Изольда избавила себя от музыкального образования сына. От скрипки Изольда избавилась позже, когда Ванчукову было восемь и он учился в третьем: подарила инструмент его соседке по парте, блондинке-красавице Наташе. Та как раз была скрипачкой и, по отзывам строгих преподавателей, делала в игре на инструменте немалые успехи.
Ванчукову оставалось любить музыку «на расстоянии». В младших классах пел в школьном хоре, впрочем, в солисты его никто не прочил. Дома из музыкального оборудования были старый железный подслеповатый телевизионный ящик да обтянутый зелёным кожзамом полукруглый электрограммофон тысяча девятьсот пятьдесят девятого года рождения, снабжённый, случайными и непоследовательными стараниями Изольды, дюжиной-другой граммофонных пластинок, добрая половина которых была на семьдесят восемь оборотов. Ванчукову, скорее, нравилась даже не музыка, а технический процесс, сопровождавший её появление. Нужно было щёлкнуть поворотной ручкой громкости – тогда загорался зелёный огонёк индикатора. Потом нужно было взять пластинку; вытянуть её из конверта – это если конверт существовал – или достать с полки, где оставшиеся пластинки лежали друг на друге, навалом; положить пластинку на диск, оттянуть рычаг звукоснимателя – тогда завращается застеленный резиновым ковриком диск; как можно точнее опустить звукосниматель на начальную канавку пластинки. И наслаждаться.
Понятно, что с пластинками можно было делать массу других вещей. Например, построить на пластинке домик из маленьких некрашеных деревянных кубиков, включить вращение и любоваться тем, как красиво домик поворачивается во все четыре стороны. Или – проигрывать пластинки на семьдесят восемь оборотов со скоростью тридцать три, слушая, как толстыми нереальными голосами, жуя слова, гудит и хрипит динамик. Наконец, если звукосниматель был отведён вправо, щёлкнул, а диск не завращался, то следовало пойти к маме и сказать заученное волшебное слово: «Пассик!» Мама тогда доставала из кухонного шкафа резиновую перчатку, отрезала от одного из пальцев неширокое колечко. То колечко следовало взять, вернуться, снять покрытый резиновым ковриком штампованный стальной диск, вытащить из-под него порванную соплю старого пассика, а новое колечко посадить на вал двигателя и центральный валик, в который вставлялся штырь стального диска, снаружи отделанного резиновым ковриком.
Когда Ванчуков стал старше, он захотел слушать музыку осмысленно. Осмысление пришло, музыка – нет. Взять её в захолустном городке было негде. По крайней мере, для Ванчукова.
Иногда отец с матерью ходили в гости к приятелям, Ободовским. Ванчукова тоже брали с собой. Ободовские жили в уютном старом, жёлтой известью крашенном четырёхэтажном доме в самом центре города. Сергей Фёдорович и Борис Арнольдович делали вместе научную работу – отец как главный инженер завода, а Борис Арнольдович как заведующий кафедрой металлургического института. Ещё им нравилось вместе периодически выпивать. Жена Бориса Арнольдовича – Ольга Петровна, доцент кафедры сопромата, собирала по таким случаям щедрый стол. Изольда Михайловна ей тихо завидовала: во-первых, потому что сама сидела дома; во-вторых, потому что Ольга Петровна умела готовить и то было видно невооружённым глазом. Сын Ободовских, серьёзный-пресерьёзный Лёня, старше младшего Ванчукова на два года, пропадал в математическом кружке и в спортивном зале; был самбистом. Поэтому, когда Ванчуковы отправлялись в гости к Ободовским, Ольгерд оказывался без компании и, что называется, «без занятия».
На время, пока взрослые дружно следовали заветам Гаргантюа и Бахуса, Борис Арнольдович усаживал скучавшего Олика за массивный письменный стол в кабинете и ставил перед ним магнитофон. Снимал пахнущую деревом и коленкором крышку. Уходил, закрывая за собой кабинетную дверь. То был первый магнитофон в жизни Ольгерда Ванчукова. Дело оказалось сделанным; зараза попала в молодой организм, размножилась и осталась там навсегда.
Репертуар магнитных лент, в беспорядке валявшихся перед жадным взором Ванчукова на столе зелёного сукна, был специфичен. Ободовские, рождённые, выросшие и поженившиеся в Одессе, уважали фольклор малой родины. Ванчукову же все эти «цыплёнки жареные» и «пустите, Р-р-рая» с «гоп-стопами» казались ну совершенно не в тему. Ну да ладно, дарёному коню… Зато сам магнитофон Олик изучил отменно. Научился приклеивать к началу лент свежий ракорд, с помощью бритвенного лезвия стыковать и подклеивать тонким скотчем обрывы магнитной ленты с непонятными волнующими названиями – «тип 2», «тип 6» и «тип 10»; мастерски, одним движением, не глядя заправлять ленту в щель головочного отсека; перематывать; даже освоил запись с микрофона. Магнитофон оказался интереснейшим аппаратом, куда как увлекательнее электрограммофона. Так продолжалось вплоть до отъезда в Египет. А там произошло непоправимое.
Через квартал от двухэтажной квартиры Ванчукова, на углу, за высокими стеклянными витринами, призывно светился музыкальный магазин. Тоже двухэтажный. Почти ежедневный ванчуковский путь в булочную или в лавку зеленщика пролегал мимо, и то было обстоятельством непреодолимой силы.
Всю не особо большую площадь первого этажа занимали пластинки с компакт-кассетами. Первый раз в жизни кассету Ванчуков увидел именно там. Маленькие «шоколадки» с двумя аккуратными дырочками пошатнули его нестойкое душевное равновесие. Тут, на первом, было суетливо и шумно. Покупателей не так чтобы много, но свежие записи звучали не переставая. Основная же ванчуковская беда затаилась этажом выше, где на полках и стеллажах жили переносные магнитофоны, радиомагнитолы и, в довершение, аппаратура класса «хай-фай». Ванчуков быстро выучил местные арабские цифры; это оказалось несложно. Гораздо сложнее было понять, как закорючки на ценниках звукозаписывающих и воспроизводящих устройств соотносятся с жизнью самого Ванчукова – там были многие сотни, а иногда даже и тысячи фунтов, которые, как понятно, никакого отношения к ванчуковской реальности не имели.
Управлял магазином молодой парень. Звали его Насиб. Владел этим и другими магазинами в квартале отец Насиба. Как звали отца, Ванчуков не знал; видел того лишь однажды, когда он вылезал из-за руля серебристого «мерседеса», точь-в-точь похожего на тот, на котором возили Ванчукова-старшего.
Заняться Насибу было особо нечем. У него работали два продавца, один на втором и один внизу. Поэтому обычно хозяйский сын курил, сидя в пластмассовом кресле на улице. На небольшом столике стояли чашечка кофе и бутылка с водой.
Была не была, в самый первый раз подумал Ванчуков и попросил Насиба показать ему один из магнитофонов, царственно помещённый на широкий стеллаж второго этажа.
– Вэр ар ю фром?[18] – спросил египтянин.
– Фром Соувиэт Юниэн[19], – твёрдо ответил Ольгерд.
– Ай си. Вэр дy ю лыв?[20]
– Нат фар. Си зэ хаус нэкст дор?[21] – показал рукой Ванчуков.
Насиб кивнул. Все дома – и в этом квартале, и в соседних – он знал наперечёт. Район дорогой, дипломатический. Случайные люди здесь не живут. Любознательный юный Ванчуков был немедленно расценён Насибом как потенциальный покупатель.
– Лэт’с гоу![22] – поднялся с кресла Насиб. Ему и самому было бы гораздо интереснее показать мальчишке товар, чем просто тупо сидеть на улице, курить одну за одной и пить нескончаемый кофе. – Ват’с ёур нейм?[23]
– Ольгерд!
– Ой…герт? Ват э гуд нейм…[24]
На третье или четвёртое посещение лавки Ванчуков всё же нашёл на втором то, чем не только хотел, но в принципе и мог бы обладать: японский радиокассетник. Большой, с двумя динамиками – один для «верхов», другой для «средних» и басов. Динамики закрывала мелкая серебристая сетка. Окошко в середине кассеты подсвечивалось сзади яркой белой лампочкой. Играл аппарат красиво, звук был чистый, полный. Кассеты перематывал быстро, с приятным свистом. Включался в розетку, но мог работать и на батарейках. Насиб тактично подождал полчаса, пока Ванчуков вдоволь наиграется с аппаратом, потом сказал: «Семьдесят фунтов, но тебе отдам за шестьдесят пять».
Уезжая в эвакуацию, Ольгерд написал на листочке название и адрес магазина, марку и название модели. Внизу заметно вывел: «65 ф.». Отдал отцу. Тот кивнул: мол, не волнуйся.
Через несколько месяцев отец вернулся в Союз. Прилетев в Москву, позвонил: везу Ольгерду подарок! Три дня, пока ждал возвращения Сергея Фёдоровича, Олик не мог спать. В школе глядел в окно, считал за окном ворон. Вороны превращались в магнитофонные кассеты, махали пластмассовыми коробками и улетали – далеко-далёко…
Отец ввалился домой поздно ночью, прилично подшофе. Ольгерд выскочил в прихожую. В руках у Сергея Фёдоровича был чемодан. На шее, на узком ремне, болтался небольшой продолговатый кожаный футляр.
– Вот, держи! – рявкнул Ванчуков-старший Ванчукову-младшему (не Пегову, уже достижение…). – Твой магнитофон!
Ольгерд, не веря счастью, схватил футляр, щёлкнул замочком. Внутри сиротливо грязновато поблёскивал хлипкий маленький магнитофончик. Во втором отсеке футляра, предназначенном под блок питания и микрофон с дистанционным управлением, гулял ветер.
– Спасибо, папа… – тихо, едва слышно прошептал Ванчуков и, опустив плечи, поплёлся со щедрым подарком в свою комнату.
– Я тебе ещё джинсы привёз!.. – куражно заорал вслед пьяный отец.
Перед отъездом времени у Сергея Фёдоровича оставалось в обрез. Позавчера подарил Аде кольцо с бриллиантом. Утром, случайно вспомнив просьбу сына, дождался, пока она выйдет из душа:
– Слушай, помоги сыну подарки купить.
– Хорошо, Серёжа. А что нужно?
– Джинсы и магнитофон.
– Так это несложно, – обняла Сергея Ада. – Даже машина не нужна. Сейчас пойдём, тут через квартал магазин джинсовой одежды. Всё фирменное. Размер какой?
– Не знаю я размера, – недовольно буркнул Сергей Фёдорович.
– Ладно, ты только не волнуйся. Я мальчика твоего помню, на глаз подберу, – «райфл», «ли» или «ливайз». У них всё есть.
– А стоят сколько? – спросил Ванчуков.
– Фунтов пятьдесят-шестьдесят.
– А подешевле?!
– Ну, в «фирменном» дешевле вряд ли. Но есть неподалёку лавочки, там местные шьют. Там же и продают.
– Вот и чудно! Туда и поедем! – подытожил Ванчуков.
Сляпанные на коленке кривые джинсы без клёпок сторговали за двадцать пять.
Ванчуков достал записку сына, сунул Аде:
– На!
Та взглянула, вернула записку:
– Знаешь, тут за углом радиокомиссионный. Вещи, конечно, не новые, но вполне приличные.
– Пошли! – воодушевился Ванчуков.
Простенький «филипс» в футляре валялся на прилавке прямо перед входом.
– Сколько? – спросила Ада по-арабски.
– Сорок, – ощерился золотозубый хозяин.
– Что не так?
– Всё так. Нет микрофона и блока питания.
– Работает?
– Отлично работает!
– Ладно. Открой.
Араб распахнул кожаный футляр, достал магнитофон, положил на прилавок.
– Что это? – Ада показала на крышку кассетного отсека. Там в чёрной пластмассе пузырился дефект, похожий на лунный кратер.
– Сигаретный пепел горячий упал.
– Сколько?
– Тридцать пять.
– Много.
– Три кассеты с записью сверху дам! Ладно, не три – четыре!
– Всё равно много. Тридцать три. И кассеты.
– Согласен! И кассеты…
Довольные жизнью и собой, Ада и Сергей отправились в ресторан, а потом занялись друг другом. Рейс на Москву был на следующее утро.
* * *
– Заходи, – пригласил Пан, открывая с лестницы убогую коричневую фанерную дверь в тёмную тесную прихожую. Пахнуло сыростью с квашеной капустой. Панов зажёг свет. Квартирка оказалась тесной, с низкими потолками. Все комнаты и кухня выходили на одну сторону. За окнами гудела вечерняя Беговая.
– Раздевайся, – сказал Серёга, – проходи. Ботинки снимай, мать помыла вчера.
Ванчуков снял пальто, разулся, спросил:
– В туалет можно?
Пан был в дальней комнате, не услышал.
Ванчуков зашёл ненадолго в туалет, потом в крошечную плесенью отдающую ванную.
– Какое полотенце можно?
– Вот это, моё, – кивнул Панов. – На кухню иди. Есть сейчас будем.
В кухонное окно старого барака заглядывал фонарь с улицы. Панов выудил из холодильника кастрюлю. Водрузил на плиту; зашипела и вспыхнула зажигаемая конфорка. Угол кухни был заставлен пустыми бутылками. Панов перехватил взгляд Ольгерда:
– Пьёт батя. Иногда. Потом сдаём бутылки-то…
В полуосвещённой от кухонного потолочного фонаря прихожей на вешалке болтался потёртый офицерский китель с изломанными на плечах капитанскими погонами.
– На сутках отец сегодня. В охране работает.
Ванчуков кивнул. Пан открыл кастрюлю, поварёшкой помешал суп, чтоб равномернее нагревался.
– Мама на заводе в вечернюю смену, ночью уже придёт.
– А брат где? – спросил друга Ванчуков.
– Брат у невесты сейчас живёт. У неё с родителями квартира прямо рядом с институтом. Ему так сподручнее. Давай поедим, а то требуху подвело, – Серёга стал разливать горячий борщ по тарелкам.
– Здесь курим, – сказал он, когда тарелки опустели. – У меня можно.
В комнатёнке ютились кровать, диван и шкаф. У окна большая старая радиола, на полу катушечная магнитофонная приставка.
– «Нота», – гордо кивнул Пан. – Брат из стройотряда привёз. А радиола даром что старая, ящик-то сам по себе большой. Басы качает что надо! Щас услышишь…
Ванчуков взял в руки пустую картонную коробку от магнитофонной бобины. Сзади, по линеечке, чёрной тушью, твёрдым «чертёжным» почерком была выведена строчка, которую Ванчуков не видел доселе никогда и нигде:
Pink Floyd – The Dark Side of the Moon (p) 1973[25]
Пан нажал на кнопку. С еле слышным скрипом поехали бобины. В динамике медленно, тихо и гулко запульсировал барабан, превращаясь в стук человеческого сердца. Ошеломлённый Ванчуков сел на холодный дощатый крашеный пол, подобрал под себя холодеющие ноги в тонких носках.
Понял: «Меня здесь больше нет».
* * *
От Серёгиной халупы до дома было минут двадцать. К вечеру подморозило. Ванчуков поравнялся с входом в овощной, когда в дверях появилась невысокая женская фигурка, тащившая в правой руке тяжёлую сумку. Женщина сделала шаг, нога поехала. Сумка вылетела из руки, упала на бок. Из сумки на заснеженный асфальт веером разлетелись картофелины, кочан капусты и несколько морковок. Женщина, не удержав равновесие, с тихим стоном шлёпнулась на асфальт рядом с крыльцом.
Ванчуков подскочил в два прыжка, протянул руку. В свете уличного фонаря узнал лицо – соседка из его дома; периодически сталкивались в лифте.
– Ушиблись? – участливо спросил Ольгерд.
– Да не то чтобы очень, – задумчиво протянула женщина. В голосе сквозили боль и нелепая обида.
– Я сейчас! – поспешил заверить Ванчуков и стал собирать картошку с морковью из жирной слякоти.
Женщина стояла рядом, безучастно наблюдая, как Ванчуков, хватая овощ за овощем, копошится в холодной подножной жиже.
– Всё, – удовлетворённо сказал Ванчуков.
– Спасибо, – прошептала женщина.
– А мы с вами в одном доме живём! – бодро улыбнулся Ванчуков, вставая с корточек, нагибаясь и вытирая руки о более-менее чистое пятно снега на газоне.
– Я знаю, – улыбнулась женщина. Было ей на вид лет двадцать пять, может, тридцать. Невысокого росточка – едва доставала Ванчукову до уха. Шапка, меховая, пушистая – как у тренерши-фигуристки, фамилию которой Ванчуков не помнил. Удлинённое приталенное пальто. Остроносые – итальянские, наверное – сапожки. Большая сумка для овощей никак не сочеталась с её модным, аккуратным, в чём-то даже щегольским нарядом.
– Я Ольгерд, – сказал Ванчуков. – Давайте вашу сумку понесу.
– Я Ника, – сказала женщина. – Тогда, Ольгерд, я понесу ваш портфель. И не спорьте.
Ванчуков хотел было сказать, что не надо, что ему не тяжело, но Ника сама протянула руку, отобрала у него школьный портфель. Маленькая рука Ники с аккуратно наманикюренными пальчиками была сухой и тёплой. Сильно выросшая за последний год лапа Ванчукова, только что искупанная в липкой грязи и талом снегу, стала холодной и липкой.
Шли молча.
– Тут учишься? – спросила Ника, когда поравнялись со школой.
Ванчуков кивнул.
– В каком?
– В седьмом.
– Мне двенадцатый, – сказал Ванчуков в лифте.
– Мне выше, – улыбнулась Ника.
– Хорошо, – кивнул Ванчуков, ставя на пол лифта сумку с овощами.
– Спасибо, – ответила Ника, возвращая портфель.
Дверь лифта открылась. Ванчуков вышел – молча, не попрощавшись, не обернувшись. И Ника молчала.
Дверь защёлкнулась за спиной. Там, за уехавшей наверх дверью, остались свет, аромат духов и что-то ещё.
А тут, на площадке двенадцатого этажа, только что родившийся мужчина Ольгерд Ванчуков против своей воли снова превращался в сопливого семиклассника Ольку.
И некому было ему помочь.
18
«Where are you from?» – «Откуда ты?» (англ.)
19
«From Soviet Union» – «Из Советского Союза» (англ.)
20
«I see. Where do you live?» – «Понятно. Где ты живешь?» (англ.)
21
«Not far. See the house next door?» – «Недалеко. Видишь дом в соседнем квартале?» (англ.)
22
«Let’s go!» – «Пошли!» (англ.)
23
«What’s your name?» – «Как тебя зовут?» (англ.)
24
«Oy…gert? What a good name…» – «Ой…герт? Какое хорошее имя…» (англ.)
25
Пинк Флойд – Обратная сторона Луны, 1973 (англ.).