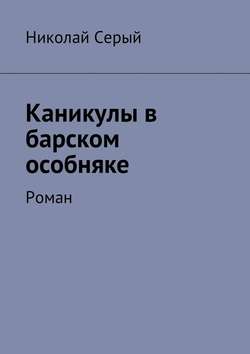Читать книгу Каникулы в барском особняке. Роман - Николай Фёдорович Серый - Страница 12
Часть первая
11
ОглавлениеК ужину первый пришёл Кирилл, обряженный в сине-чёрную клетчатую блузу из прозрачного шёлка и серые штаны; его белые ботинки поскрипывали. Он сел на своё обычное место за овальным столом и уткнулся взором в пустую тарелку; проворные пальцы Кирилла теребили льняную салфетку…
Вскоре появилась чопорная Алла в голубом просторном платье по щиколотку; спина и грудь были укутаны красной пелериной; сверкала на плече золотая брошь с выпуклым рубином.
Кузьма, моргая, столбенел возле коричневых полированных дверей, а когда появился Чирков, то юрко засеменил ему вослед к хозяйскому креслу. Алла и Кирилл быстро и почтительно встали и слегка поклонились, а затем, повинуясь небрежному хозяйскому жесту, уселись вновь.
Чирков облачился к ужину в крапчатый атласный костюм без галстука; замшевые туфли хозяина отличались очень толстой подошвой; пальцы были унизаны драгоценными кольцами… Он вальяжно уселся за стол, и воцарилось молчанье; Кузьма внёс яство…
Они с аппетитом ели дичь, усыпанную толчеными ядрами земляных орехов; пили вино из древних кубков. Вкушали на десерт бублики с маком, яблочное желе и брусничную шипучую воду… Сотрапезники болтали о пустяках, но все были напряжены…
Наконец, Чирков обратился к Кузьме:
– Ответь мне, драгоценный виночерпий и чашник: дрыгался ли, плясал ли от радости кургузый наш пленник, получив по воле твоей свободу?
Кузьма изобразил мимикой изумленье и замер в подобострастной позе; слуга отвечал по наитию, не ожидая от самого себя таких слов:
– Пришелец не обрёл свободу. Я же ничего не посмею предпринять без вашего, мой господин, согласия. Я словно рычаг в ваших руках… ваша кувалда… Но я почуял, что пленник очень боится крестьянской, чёрной работы. И я, чтоб его дополнительно помучить, погнал его удобрять навозом землю. Покорней после этого станет. Свора матёрых собак получила команду стеречь его, не выпуская из парника. Простите моё рвенье.
Агафья, стоя в кухонных дверях, услышала эти фразы слуги и подумала:
«Лучше нельзя было ответить. Теперь у стремянного больше шансов избежать кары за свои фокусы. Пожалуй, он выкрутится на этот раз…»
Для Чиркова оказался неожиданным такой ответ слуги, хотя хозяин и готовился мысленно к разным вариантам грядущего разговора. От Кузьмы ожидались дерзости, за которые мало словесно отчихвость, а нужно сурово покарать муками тела…
Чирков озадачился и спросил:
– А почему ты, Кузьма, решил, что устрашает пришлого обормота грязный крестьянский труд?
И слуга ощутил вдохновенье, и постарался скрыть его от хозяина. Поза Кузьмы осталась чрезвычайно почтительной, а голос, хоть и басил, но был елейным. Слуга сказал:
– У парня бзик… особый комплекс неполноценности… Страшит его тяжёлая и грязная работа, ибо его превращает она в подобье матери, которая всю жизнь тяжко вкалывала в грязи… И страшится сын повторить в свой черёд её участь…
Чирков внезапно ощутил злость и пытался скрыть её за иронической гримасой; негодующим взором уставился он на графин с брусничной водой…
Больше всего взбесило Романа Валерьевича то, что он пытался скрыть свою злость от челяди. Он быстро понял, что попытка скрыть своё чувство не вполне ему удалась, и что прислуга и сотрапезники наверняка заметили его озлобленье.
Впервые после распада Империи ощутил Роман Валерьевич необходимость утаивать свои подлинные чувства. А в имперские времена были ему ханжество и лицемерие привычны. Приходилось ему имитировать заботу о пациентах, которые не были ущербны разумом, но отрицали полезность и нравственность Империи. Роман Валерьевич оказался весьма способным к мимикрии. Он успешно долдонил с трибуны высокопарные лозунги и ругал опальных вельмож. При вручении орденов и юбилейных медалей приходилось ему скрывать свои способности диагноста, ибо он, едва окинув лекарским оком одутловатые лица и квелые рыхлые фигуры, мог безошибочно определить время смерти любого сановника, а государственные лидеры очень боялись узнать истину о своём здоровье. И поэтому случалось порой, что кремлёвские врачи, опасаясь их мстительного раздраженья, не столько их лечили, сколько пичкали их бесполезными витаминными таблетками и успокоительной болтовнёй…
В эпоху Империи Чирков был важным в иерархии звеном, но вольности ему особой не давали, требуя неукоснительного соблюдения неписаных обрядов, ритуалов и правил. Притворство негласно считали главным доказательством лояльности… Но после того, как удалось ему создать собственную церковь, исчезла у него нужда в притворстве. И появилась у Чиркова роскошная возможность давать волю любым чувствам, которые его обуревали. И был он уверен, что от него стерпят всё: и злобные шалости, и гнев, и капризы. И настолько он верил в незыблемость собственного авторитета, что позволял себе даже подшучивать над собою. Вот-де и оратор я хороший, и собственную церковь я сварганил, а не могу на бумаге излагать мессианские свои идеи…
И вдруг ему пришлось унизительно утаивать свои чувства перед челядью!.. Ему, чья глобальная миссия преобразит мир!.. И Роман Валерьевич злился всё пуще…
И вдруг он задумался о том, что же именно его злит. И припомнилось ему, что в последнее время он во всём соглашался с Кузьмой. И сообразил, наконец, Роман Валерьевич, что его обозлило осознание именно этой своей уступчивости, которая наверняка замечена другими. Обозлило его ещё и то, что Кузьма совершенно точно определил психический комплекс пришельца. И Чирков впервые позавидовал смекалке своего слуги и чрезвычайно рассердился на себя за это…
И взвинченный Чирков размышлял при общем молчании:
«Они учатся у меня, присматриваясь к моей методике. Ведь они уже видели специфические реакции людей после моих опытов. И уже сами могут поставить они психический диагноз. И они, вероятно, видят меня совсем не таким, каким я сам себя воспринимаю. Неужели я теперь им кажусь сумбурным и взбалмошным? Неужели в их ораве меня уже критикуют? Разумеется, критикуют не люди-брёвна, лишённые разума, а те, кто в моём окружении пригрелся и занимается моей канцелярией…»
И все эти нахлынувшие мысли быль столь мучительны и тревожны, что захотелось Чиркову немедленно убраться в свои апартаменты, а не предаваться обычному своему балагурству после ужина. Чирков вытер салфеткою рот и забубнил:
– Канва твоих мыслей, Кузьма, имеет верную психологическую подоплёку. У пришлого есть такой психический комплекс. Это очевидно. Пусть работает в навозе и грязи, если это ему особенно мучительно. Хаживал и я студентом на овощные базы, где я сортировал гнилой картофель. И богатые белоручки трунили надо мной за это… Пускай и он… как бишь его?.. ах, да… Осокин!.. потрудится на моих фермах… Но статус его остаётся неизменным: он – узник. И жить он будет в подвале. И знай, Кузьма: ведь я тобою не обманут. Ты его вызволил, чтоб иметь хотя бы одного подчинённого, которым мог бы ты помыкать. И тебе, мой бесталанный Кузьма, толики власти захотелось… Я не обманут…
И внезапно все сразу: и сотрапезники, и он сам, и его челядь подумали о том, что ему нельзя было произносить эти слова… Ему полезно было притвориться обманутым; Чирков это понял и, вскочив, покинул столовую…
После ухода хозяина пытался Кирилл подтрунивать над слугою:
– Ну, что же, Кузьма, не удалось тебе охмурить хозяина. Я тебя понимаю: ты бывший офицер и привык муштровать подчинённых; без них у тебя хандра. Но простит ли Роман Валерьевич попытку его обмишурить?
Кузьма по-солдатски вытянулся во фронт и ответил:
– Я не смею лгать благодетелю и патрону.
Кирилл пристально взирал на слугу: у того ни один мускул на лице не шелохнулся. Алла молвила:
– Сквозняк портьерами колышет, и я озябла. И уже поздно. А ведь мне ещё предстоит записать сегодняшние речи моего дяди, иначе они к утру потускнеют в памяти.
Кирилл настороженно встрепенулся и спросил:
– Алла, неужели отныне ты будешь систематически записывать в тетрадку разговоры нашего шефа?
– Да, мне оказана такая честь.
Агафья, стоявшая досель в кухонных дверях, гневно, но тихо засопела, резко повернулась и вышла прочь. Кузьма, усмехаясь краешком рта, вытягивался в струнку. Кирилл пыжился и пытался иронизировать:
– А ты преуспела, Алла. Витиеватой вязью отчеканено будет на твоей погребальной урне: «Она записала разговоры Романа Валерьевича Чиркова». Ты окажешься после кончины на скрижалях мировых религий…
– Не суесловь о смерти, – попросила она с выраженьем кротости на лице.
– Пожалуй, – согласился Кирилл и, вскочив, удалился вихляющей походкой из комнаты.
Кузьма слегка поклонился Алле и произнёс:
– Поздравляю вас.
Она ему невесело кивнула и велела:
– Убери и вымой посуду. Загони Осокина в его камеру. И больше не провоцируй дядю своим психологическим трюкачеством.
– Я понял.
Она медленно встала и вышла из столовой. Кузьма, тревожно супясь, начал убирать посуду…