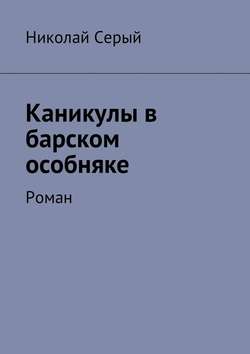Читать книгу Каникулы в барском особняке. Роман - Николай Фёдорович Серый - Страница 13
Часть первая
12
ОглавлениеОсокин в парусиновой робе понуро сидел с вилами на скамейке возле парников; две овчарки лежали рядом на крохотной лужайке и, ощерясь, смотрели на него. Сумерки сгущались, а ветер крепчал и пах болотной тиной.
«Дадут ли мне сегодня пожрать хотя бы чёрствую корку? – думал Осокин. – У меня с рассвета макового зёрнышка во рту не было. А уже вечерняя заря… Попал я в плохую катавасию… Пожевать бы колбаски с чесноком и салом… и хорошо бы чарочку перцовой горелки перед сном тяпнуть… Я изнемог от этой изнурительной и вонючей работы в навозе…»
И Осокину вспомнилось, как его мать, выслушав его описанья тягостей сапёрной армейской жизни, сказала ему: «Больше никогда не занимайся грязной и тяжёлой работой. В юности и армии, возможно, простительно это, но в гражданской взрослой жизни – постыдно. Не уподобляйся мне. Если ты, сынок, хотя бы ещё один раз запачкаешь себя грязным трудом, то уже никогда не заползёшь ты в приличное общество. Я надрываюсь, чтоб не надрывался ты…»
И Осокин начал бояться уподобиться своей матери; она же работала дворничихой, и не позволяла сыну помогать ей. И казалось Осокину, что если он возьмётся за лопату, совок или метлу, то будет обречён на беспросветную судьбу своей матери. И поэтому избрал он стезю мошенника…
Он размышлял:
«В столице я ещё мог сойти за интеллектуала. Ведь я торгую не украденным на чердаках бельём, а иконами. Я шлялся по притонам, вернисажам и клубам и гомонил там… и порой я тасовался в богемной кутерьме художников… Но, пожалуй, всё это в прошлом. Теперь меня могут и верёвкой связывать, и на аркане таскать. Могут меня дёгтем и смолой измазать. И принудили меня копошиться в навозном дерьме. А ведь мне завещала мать, как фетиш, никогда не заниматься такой работой. И что же теперь со мною будет?.. Какой мне выпадет здесь жребий? И кто я такой?..»
В дальнем конце аллеи появился Кузьма, который шагал неспешно и важно. Осокину вдруг припомнилось изображение пиратского капитана на гравюре в детский книге; пленник вскочил и, тиская обеим руками навозные вилы, весь напрягся…
Кузьма, наконец, приблизился, а сумерки уже столь сгустились, что цвет его коричневого костюма был почти неразличим. Осокина вдруг поразило, что лицо бородача оказалось смущённым и даже перекошенным, хотя осанка Кузьмы осталась гвардейской. Собаки встали и, переминаясь на сильных лапах, тихо зарычали.
Осокин держал вилы зубьями вверх; его вдруг затошнило от здешних миазмов. Кузьма подошёл к пленнику вплотную и молвил:
– Я вижу, что умаялся ты. Очень трудно без тренировки раскидывать навоз; я по себе это знаю. Гнусное занятие!..
И Осокин, ощутив нежданную симпатию к слуге, сказал умилённо и выспренне:
– Навоз, как удобрение, помогает свивать прекрасные гирлянды цветов!
– Завтра будешь сбрую для кареты ладить. Хозяин обожает кататься в коляске, запряжённой рысаками. Станешь ты у меня и шорником, и плотником. Попрошу для прочих работ пригнать «людей-брёвен». Эти хозяйские холопы работящи и покорны, как волы…
– А почему здесь людей обзывают брёвнами?
Кузьма хозяйственно прошёлся по двору, попинал ногами кучу хвороста и неожиданно для себя заговорил откровенно:
– Ты вилы держишь, как копьё. Будто пронзить меня хочешь. Я не скрою: хотел я из тебя жертвенного козла сделать. Но ведь я не стал тебя потрошить, и даже слабенькой оплеухи я тебе не отвесил… Ты спросил, почему здесь людей называют брёвнами? Такой термин придумал хозяин; непредсказуемы зигзаги его мысли. Но есть определённый смысл в этом названии. А я бы к словечку «брёвна» прибавлял бы ещё эпитет «восторженные». Они почитают хозяина, как Бога! Они полагают, что он может воскресить мёртвых. Есть у хозяина особые приёмчики, которые разработали психиатры ещё в эпоху Империи… Славная была эра!..
И оба они во мгле сели рядом на скамейку; Осокин отшвырнул ненавистные вилы и спросил:
– А почему вы хотели превратить меня в жертвенное животное? Неужели намеревались моей кровью повязать хозяина с собою?
– В десанте был подобный ритуал. Я сам сбросил пленников с вертолётного борта; этим командиру меня и повязали… А здесь я захотел быть мотором всего дела и повязать кровью тутошних главарей. И добавить им убийством решимости…
– А как меня собирались прикончить?
– В нашем капище… как лазутчика… при скопище тех, кого хозяин секты не лишил ещё разума… Огромным хозяйством нельзя управлять с помощью идиотов, и поэтому некоторым членам нашей секты разум ещё сохранён. Они – как снасти, кормило и якорь для корабля новой веры!.. И я подумал, что, совершив вместе с ними сакральную жертву, я их повяжу кровавой круговой порукой и заслужу за это особую благодарность хозяина. И усугублю его доверие ко мне…
Осокин содрогнулся и спросил:
– А почему вы отвергли эту затею?
– Я испугался, что почуют они сладость крови; ведь они уже сейчас невменяемы от рабской покорности им. Они властью одурманены, как наркотиком, но крови ещё не пили. А пролитая кровь заражает страстным хотеньем лить её и впредь. Я был на войне и знаю это… Я не могу заглянуть в магический кристалл, но я прекрасно представляю, что с ними будет, если крови они попробуют. Это будет гремучая смесь, ибо лишатся они всяких нравственных препон и тормозов. И я первый от этого рискую пострадать: ведь я приближен к ним. Некоторые уже козни мне строят… Если вкусят они крови, то меня непременно убьют. А вот если они к крови не приохотятся, то меня просто превратят в «человека-бревно», а такие по-своему счастливы…
Осокин криво усмехнулся во тьме и возразил:
– А я не хочу такого счастья; я не желаю стать восторженным бревном. Какая, в сущности, разница между растительным бытиём и смертью? Я не обладаю сложным духовным миром, но я не хочу утратить то, что есть во мне. Пусть я не Лев Толстой, с его рефлексией и самоанализом, с его великолепным дневником, составившим эру в литературе. Я – примитивнее, проще. Но и во мне есть то, что я не хочу потерять. Я не желаю, чтоб у меня были похищены воспоминанья о моих мечтах. Я помню, как я бродил на окраине города возле ресторана «Застава» и мечтал, что я буду здесь смаковать на кутежах драгоценные марочные вина, а не пить в подворотне сивушное зелье из аптечной микстуры на спирту… Если я стану человеком-бревном, то какая разница: счастлива эта особь или нет? Вокруг меня шныряет множество людей, но разве интересно мне их душевное состояние?.. По-вашему: я не прав?..
– Говори мне «ты», – тихо молвил Кузьма, – ведь у нас примерно одинаковый возраст…
– Хорошо, я, пожалуй, перейду на «ты». Ведь ты мне сулил своё соседство по флигелю.
– Пока не будешь ты моим соседом, – отозвался смущённо Кузьма, – хозяин всё переиначил. Он по-прежнему считает, что ты лазутчик, и велел тебя содержать в подвале.
– Вот как!.. Пусть, ладно!.. Но я не хочу, как пещерный житель спать на жердях. Я не претендую на постельное бельё, перину или подушку, но выдать могли бы матрас из соломы. И верните мне торбу: там есть мыло и бритва… не привык я ходить со щетиною на лице…
– А ты горло себе не перережешь… чтоб не стать человеком-бревном?..
Осокин ответил неуверенно и с запинкой:
– Я пока не знаю. Жутковато умирать, но перспектива стать восторженным олухом мне претит…
– Перестань о смерти суесловить, – решительно сказал Кузьма, – ибо ничего ты не знаешь о ней. А я был на войне, в этой кровавой бузе, и я видел смерть воочию. От бойни у меня мысли взвихрились, и я влез в неоплатные долги. Кредиторы вознамерились меня убить, но здешний хозяин вызволил, и теперь мне нет хода отсюда. Сразу прикончат за долг. А ты, если драпанёшь с этой каторги, то будешь вольным соколом.
Осокин хмыкнул:
– Неужто моё положение здесь более предпочтительно, нежели твоё?
– Пока ещё нет. Тебя псы стерегут, и ночевать ты будешь в подвале. И на ужин дадут тебе постную баланду и кашу без масла. А я буду яства вкушать…
– Объедки!..
– Зачем ты так?.. Я ведь с душевностью к тебе обращаюсь…
– А кстати: почему?.. Чем я вызвал у тебя внезапную приязнь ко мне? Ты – импульсивен, но не глуп. И должен понимать, что такая откровенность со мной – рискованна… Мне ведь незачем тебя жалеть: на заклание хотел меня отправить, на плаху… Моей кровью чаял ты обагрить жертвенный алтарь… А теперь ты станешь меня, как сельский бригадир, эксплуатировать на фермах и впредь…
– Неужели донесёшь ты хозяину о разговоре этом? – хмуро и прямо спросил Кузьма.
И вдруг Осокин решил, что лгать теперь нельзя, и подумалось ему, что имеется в его организме неосознанная высшая мудрость, перед коей обычный разум – пошлое ничтожество… И преобразилась для Осокина реальность, и обычные парники с бутонами и цветами вдруг ему привиделись закоулком таинственного мира под управлением Провиденья… Мир забарахтался, заискрился, и Осокину показалось, что лунные тени кувыркаются. И струйки ветра мнились ему дыханием Божества, а далёкие зарницы – грозными зеницами Вседержителя…
Осокин уже не размышлял, и обычный разум казался ему помехою в жизни, а думы, запечатлённые в памяти, мнились до безобразия пошлыми. И сполохами прорывались в него мысли извне, словно их вибрирующими пучками гнал из космоса Всемирный разум…
И Осокин постиг наитием, что была его смерть очень близка. А спасло его только то, что в миги решающей и роковой беседы он был абсолютным рабом, не желающим ничего, кроме хозяйской ласки. Он не притворялся, а воистину был полным рабом и в мыслях, и в инстинктах, и в душе. И поэтому он не фальшивил, когда твердил о своём восторге перед хозяйским величием. И поверил ему Кузьма не только разумом, но и подсознаньем. А подсознательная вера крепче любой другой веры… И подсознательно Алла поверила Осокину, а тот теперь вдруг постиг наитием сущность этой женщины…
Она средь мужчин искала себе раба настолько ей преданного, чтобы оказался он способным ради блага своей госпожи и саму её приструнивать, усмирять и карать…
И вдруг сознание Осокина отключилось, прервав его бесконечные мысленные речи; прекратилось его внутреннее витийство, которым он тщился себя оправдывать. Замер его внутренний диалог с воображаемым спорщиком. И в таком состоянии, которое вдруг Осокину показалось чрезвычайно комфортным, он заговорил:
– Ты спрашивал о вероятности моего доноса на тебя. Но зачем мне здесь ябедничать? Я не стану здесь словесной трещоткой и не растреплю хозяину о беседе нашей. Мы с тобой здесь в равной опасности, и, пожалуй, нам нужно быть союзниками. Но зудит у меня кожа на ногах, а моя обувь пропитана зловонной жижей. Я хочу разуться, и мне лицо ополоснуть надо. И я настырно прошу дать мне пожрать. Я очень голоден: во время сегодняшней канители мне даже постного борща похлебать не дали…
– Эта канитель могла оказаться смертельной для тебя, – молвил Кузьма и встал со скамейки. – Пойдём со мною. В подвале есть горячий душ. Постельного белья не обещаю, но принесу рогожу и дерюжный матрас. Дам чистые шаровары и рубаху… и приготовлю тебе ужин… И ты уж не взыщи: из объедок…
Осокин вскочил и откликнулся:
– Мне теперь недосуг кочевряжиться и брезговать!
И они стремительно пошли к особняку, и шагал Осокин чуть впереди… После горячего душа Осокин в чистой одежде и в своей камере, где уже на полатях лежали рогожа и матрас, поел жирную кулебяку из оленьего фарша и булькающую уху с налимьими молоками… Затем Кузьма проворно вынес из камеры посуду и, заперев щеколдою двери, пошёл на кухню; там Агафья и слуга, чокнувшись, выпили залпом без закуски по чарке водки и молча расстались…
И скоро в особняке все крепко уснули, ибо предельно были изнурены сегодняшним днём… И только сторожевые псы, рыча, сновали по усадьбе…