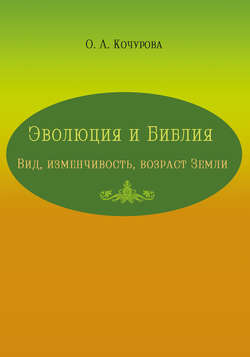Читать книгу Эволюция и Библия. Вид, изменчивость, возраст Земли - Оксана Кочурова - Страница 11
Глава 2. Эволюционное мышление и глобальный эволюционизм
2.1. Эволюционизм и креационизм: особенности языка науки и Библии
Язык науки и язык Библии
ОглавлениеБиблия – это откровение невидимого мира для людей, живущих в видимом мире. Откровение не простое, а зашифрованное, поэтому в Библии не все говориться прямо и ясно, но используется образный язык: притчи, звери, растения и т. д. То есть невидимый – более совершенный и развитый мир рассказывает нам что и как надо делать, чтобы подняться на высшую ступень развития, нам, людям (человекам) земли, чтобы не восставать из праха через деторождение и снова уходить в землю на гниение, а иметь жизнь вечную.
Сразу отметим, что если обычный человек однажды возьмет и прочитает из Библии хотя бы несколько страниц, то будет согласен с характерными особенностями, а именно: Библия всегда немногословна, предельно кратка и ясна, смысл однозначен (да, нет). При этом, за подобной краткостью скрывается глубинный смысл, лишь частично доступный обыденному сознанию. Этот смысл может раскрываться ищущему уму, причем по-разному, в зависимости от задачи поиска. Одна фраза может дать ответы на многие вопросы, и соединяться цепью высказываний с другими фразами, раскрывать перед нами множество книг в одной книге, или в одной фразе. Так же и одно слово, соединяясь с другими фразами, приобретает более широкое и объемное значение и смысл.
Стиль и форма такой аргументации доступны обыденному сознанию в простой и удобной форме изложения. Правда такая форма написания, особенно книги Бытия, рассказывающей о происхождении мира и жизни, не внушает никакого доверия научному сообществу, имеющего на сей счет иное мнение.
Научный же язык (научные журналы, статьи, диссертации) в свою очередь пестрит многословием, сложной терминологией; когда нет однозначного определения термина или понятия, это вызывает путанность высказываний, смысл которых не всегда однозначный (и да, и нет, и не знаю), а потому теряющийся; стиль и форма аргументации зачастую недоступны обыденному сознанию. Это касается любых научных публикаций по эволюционной тематике как серьезных научных исследований, так и статей научно-популярного толка. Многие, конечно, с этим не согласятся, т. к. для них никакого недопонимания и туманностей просто не существует, особенно если быть заостренным на частных случаях и не касаться целого. Но, заметим следующее.
Особенности научных утверждений и тезисов в отношении эволюционной тематики:
– наличие сложных терминов и понятий, которые не имеют однозначного определения и значения. К таковым относятся: «эволюция», «вид», «видообразование», «мутация», «эпигенетика» и др.;
– существует масса вопросов, требующих дополнительного осмысления и анализа имеющихся данных и вновь получаемых. К ним относятся такие вопросы, как: вид и его место в систематике, систематика как наука о классификации организмов, вопросы эмбрионального развития; вопросы изменчивости на всех уровнях организации; возраст Земли, геохронологическая шкала, геологическое датирование и множество других сопутствующих.
Поэтому фундаментальными вопросами в понимании проблем эволюции как эволюционной идеи являются три глобальных вопроса: проблема вида, изменчивости и возраста Земли.
Проблема вида является таковой, поскольку мы никак не можем включить в термин «вид» однозначного значения.
Проблема изменчивости активно исследуется генетикой, посему мы знаем о ней гораздо больше, чем о сомнительном термине «вид», но все же достижения генетики на сегодняшний день не могут быть убедительны при объяснении вопросов «макроэволюции», приходится признать, что вся изменчивость организмов проходит в рамках «микроэволюции», при котором мы имеем появление разнообразных внутривидовых форм, но никак не видов (по Библии – родов).
В вопросе возраста Земли есть два пункта: Земле несколько тысяч лет – по Библии, либо, по научным данным, 4,5 млрд. лет. Здесь есть тоже только два варианта: исследовать возраст Земли по Библии и/или опираться на научные сведения.
Итак, с самого начала в эволюционную концепцию вкладывается дилемма выбора – с какой позиции выступать. Если мы затрагиваем тему возраста Земли, сказать, что большинство выбирают научный вариант, не совсем точно, правильнее будет говорить о том, что большинство представителей от науки будут придерживаться в своих высказываниях миллионов и миллиардов лет существования Земли, большинство приверженцев от религии будут говорить о 6 днях творения (понимаемые как обычные сутки в 24 часа) плюс примерно 6 тысяч лет (учитывая хронологию от Адама до Авраама) и плюс минус несколько веков. В целом, в религиозном варианте возраст Земли оценивается примерно в 6 тысяч лет.
Но такая полярность во взглядах на возраст Земли также рождает всевозможные споры и диспуты, которые также не дают однозначного ответа. Здесь же следует внимательно изучить библейский текст и узнать самому: а сколько же Земле на самом деле лет? Для этого не нужно ничего, кроме внимательного прочтения Библии. В соответствующей главе мы этим и займемся.
Таким образом, узнать ответы на животрепещущие вопросы Бытия, происхождения мира, происхождения животных и растений, происхождения человека можно, открыв и почитав Библию. Кто-то скажет: «Это недостоверный источник и не может им являться». Хорошо, тогда предоставьте достоверный источник от науки или из книг различных религий. Научными наработками мы займемся чуть позже в данном исследовании. Как же со священными книгами основных религий?
Итак, о чем могут нам сказать священные книги из разных религий касаемо темы происхождения?
У евреев – это Тора, представляющая собой Пятикнижие Моисея, включает основополагающую книгу Бытия, где и повествуется о происхождении мира и жизни; в исламе – это Коран, в основе как сборник правил и законов, посланный пророком Муххамедом, но не описывающий тему происхождения земли и неба; в буддизме – учение Будды, сконцентрированное на сознании, психологии и освобождении, не затрагивающее тему сотворения мира, мир считается «никем не созданным и никем не управляемым»; в то же время вопрос о том, есть ли у мира начало, считается «не имеющим ответа»; в христианстве – Библия как собрание Священных текстов, но здесь есть деление на канонические и неканонические, признаваемые как священные и не признаваемые за оные соответственно.
Библия начинается с Пятикнижия Моисея, книги Бытия, повествующая о происхождении земли и неба, ее мы и будем исследовать ниже.
Таким образом, становится очевидным, что тема происхождения затрагивается только в Библии, а именно в первой книге Моисея – книге Бытия, которая включает книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Этим Пятикнижием ограничивается Тора у евреев, в остальных религиях данная тема вовсе не затрагивается.
Поэтому основным и практически единственным источником по теме происхождения мира и жизни выступает полная Библия, в которой для исследования подробностей необходимо изучать не только книгу Бытия, но и другие книги Ветхого и Нового Завета.
Известные 6 тысяч лет существования Земли или всего 6 земных суток творения Земли как планеты, которые декларируют приверженцы креационизма, как-то не укладываются в голове современного человека из-за непонимания и невнимания к данной области исследования. Прочитав первую главу Бытия или даже всю книгу Бытия и приняв или не приняв на веру то, что там написано, человек имеет право трактовать написанное так, как ему угодно, и так делает каждый (эволюционист, креационист или любой другой) и выводит свою формулу происхождения.
Главный вывод из всего вышесказанного таков: исследования в области эволюционных идей и теорий эволюции исходят из положения, основанного, прежде всего, на безверии, отсутствии божественного начала, непосредственно построенного на признании материальности и бездуховности мира. Мир основан на принципе физических законов мира и материи как первопричины данной материи; на ведущем влиянии случайных факторов в развитии жизни. Этот постулат составляет фундамент современной науки.
При этом по логике вещей возникает ситуация, обратная сказанному: действия случайных причин не могут стать причиной возникновения сложных саморегулирующих структур и систем с точки зрения самой же научной логики; при этом сама наука с должным упрямством отстаивает ее в угоду устойчивости здания-химеры «эволюция органического мира».
Чтобы описать постепенную эволюцию в дарвиновском варианте, логикой сразу обнаруживается факт – невозможность качественного преобразования одного организма в другой (например, динозавра в птицу) за короткий промежуток времени (десятки, сотни, тысячи лет), для подобного перехода требуется гораздо больше времени. Так появляются «укрупнители» возраста Земли, естественно, с доказательствами такового, превращающие тысячелетнюю планету в старушку в 4,5 млрд. лет, поскольку в глубоких миллионах и миллиардах лет легче (логически) пройти эволюционный путь случайной удачи, в результате которого получается совершенно удивительный результат. Этой точки зрения придерживается Ричард Докинз, один из активных пропагандистов эволюционной темы.
Но даже при таком замахе, ученые, исследовав предмет как следует, все же соглашаются с математической статистикой – вероятность подобного равна нулю.
Логическая схема объяснения вопросов эволюции для ищущего человека выглядит примерно следующим образом:
Схема 1. Логика ищущего человека
Но эволюционное мышление делает вывод D: Мир есть результат случайных причин. Хотя логичен совершенно другой закономерный вывод – мир создан Богом. Но логика эволюционизма (атеизма) не подразумевает Божественное Начало, а при его отсутствии следует только вывод о самопроизвольном развитии.
Логика эволюционизма: сказал А, не сказал B, не сделал вывод С, обозначил вывод D. Присутствуют и выводы от религии, когда признается и Божественное начало, и эволюционный путь развития.
Логика креационизма: сказал А, сделал вывод B, сказал про С…, вступил в споры с результатами D. Для них часто характерен уход от исследования непосредственно библейских текстов как основы, уход в сторону критики выводов эволюционизма и др. подчас непродуктивных и/или околонаучных аргументов. Причем вполне оправдана система взглядов, при которых Бог совершает эволюцию по человеческим понятиям.
Так, опираясь на белые пятна и критические точки друг друга, эти два направления (эволюционизм, креационизм) в исследовании проблемы происхождения жизни становятся одинаковыми и в этом смысле равными друг другу. Находить друг у друга ошибки, отстаивать их и доказывать при этом, что моя сторона права, а другая нет, уже не имеют права утверждать о решении в данном вопросе, им (приверженцам этих направлений) следует в этом случае только признать, что они никак при этом вопрос не решают и даже не приближаются к нему.
Напомним и то, что еще Дарвин в своих трудах открыл перед нами три кита эволюции: вид, изменчивость, возраст Земли, которые он сам сумел разрешить с более-менее утешительным результатом в тех рамках, в которых это было возможно для него.
Именно в этих трех ракурсах и следует рассматривать, на мой взгляд, всю историческую подоплеку эволюционных идей и историю формирования эволюционного мышления в настоящий момент.
Здесь я не случайно привожу довольно известные и избитые имена и утверждения и не рассматриваю современное состояние эволюционной теории, поскольку это и не нужно. Все критические замечания и проблемы были высказаны еще в XVIII–XIX вв. В XX–XXI вв. к ним добавились новые, но все же они не теряют актуальности и сейчас, даже больше, в современном мире эти утверждения, накладываясь на ранее высказанные, подверженные критике, максимально усугубляют положение. «Засоренность» эволюционной теории стереотипами, ложными штампами и постулатами только подогревает недоверие к ней самой и предрекает громогласный конец.
Необходимо сделать и такой философско-духовный вывод: человеку было выгодно держаться за эволюционную идею как за спасительный якорь и искать в связи с этим для нее доказательства, поскольку это обеспечивало ему некое оправдание за несправедливые мысли и действия (желания и деяния). Подробнее этот религиозный аспект разберем в заключении.
Системный поиск доказательств эволюции начал еще Дарвин, после него они продолжились в XX веке, когда теория возобновилась и получила развитие в новом качестве вкупе с генетикой в форме СТЭ (синтетической теории эволюции), в настоящее время – в современных теориях эволюции.
Но явная несправедливость некоторых из выводов Дарвина стала очевидна в связи с развитием других наук, например, палеонтологии. Еще при его жизни критики Дарвина неодолимо разрушили почти все основания теории: камни теории естественного отбора еще тогда подверглись оглушительному развалу. Стало ясно, что надежда на переходные формы в пластах Земли не оправдалась, ряд утверждений о природе наследственных изменений также оставляли желать лучшего, а непонятность термина «вид» отсылала к поиску более точной области исследований.
Новая наука генетика с упорством взялась за доказательства теории естественного отбора, так появилась синтетическая теория эволюции, которая имела целью не ответить на вопрос: есть или нет эволюция (ее наличие подразумевалось априори), а объяснить механизмы этой эволюции (дарвинизм, неодарвинизм). Здесь следует рассмотреть СТЭ с тех же ключевых позиций, а именно с того, как она решает вопрос вида, изменчивости и возраста Земли. То же самое, на мой взгляд, необходимо проделать с каждой новой эволюционной гипотезой.
С одной стороны, развитие генетики, молекулярной биологии и всех появляющихся сопутствующих наук дало обширные сведения о наследственности и изменчивости, подало почву для мнений о виде и о его изменчивости, особи в частности. Но все выводы СТЭ были связаны с эволюционной теорией, в частности, для ее объяснения она и создавалась, поэтому факты, открываемые ею, были непосредственно завязаны на эволюционную основу. Так, открытия хромосомных перестроек тут же использовались для объяснения эволюционных представлений разного толка. Видовой уровень сместился на популяционный, где именно популяцию стали считать единицей эволюции.
Как бы выглядели результаты генетики, молекулярной биологии и других наук в XX веке, если бы не были интерпретированы в свете эволюционных представлений? Если рассмотреть эти результаты без них, а связать их просто с закономерностями наследственности и изменчивости, мы бы адекватней оценивали эти закономерности.
Главная задача настоящего исследования – отделить открытия, выводы разных наук от идей эволюционного плана. С течением времени эта задача стала все более сложной. Новые открытия в области разных наук стали скрепляться эволюционной идеей. Она стала центром, основой всех биологических наук, исследований, ее фундаментом. Современную биологию трудно представить без эволюционной тематики, эволюционных построений.
Вновь и вновь возвращаясь к исходной книге Дарвина, укажем на противоречивый ее характер, заложенный с самого начала, на хрупкость и иллюзорность самой идеи эволюции, на что он указывал сам.
Перед публикацией своей книги Дарвин утверждал: «Будущая книга вас весьма озадачит; она, к сожалению, будет слишком гипотетична. Скорее всего, она лишь послужит упорядочиванию фактов, хотя сам я думаю, что нашел приблизительное объяснение происхождению видов. Но, увы, как часто – почти всегда – автор убеждает себя в истинности собственных догм» (Чарльз Дарвин, 1858, из письма коллеге о заключительных главах «Происхождения видов». цит. по John Lofton’s Journal, The Washington Times, 8 February 1984).
Сам Дарвин заложил в своей теории многие противоречия. Он указывал на то, что если не будут найдены переходные формы, то его теория рухнет. Классические выводы теории, связи, закономерности стояли на китах, которые сами по себе были нерешаемыми. Вид, изменчивость и возраст Земли в теории выглядят натянутыми и для себя скоро принятыми. Эти связи и выводы, выведенные из неправильных представлений об этих китах, сделали теорию внутренне противоречивой. Она выглядела строго научной, ясной и не вызывающей сомнений только на первый взгляд.
По выходу в свет «Происхождения видов…» сразу появились критики (Данилевский, Виганд и др.), которые разложили по полочкам все логические построения, выявив противоречия и неувязки между пониманием проблем вида, изменчивости, возраста Земли. Вскоре появились жесткие обоснования, доходило даже до того, что теория должна быть оставлена раз и навсегда; но этого не произошло. Она не только не была оставлена, но была взята на вооружение дальнейшим развитием науки и общества.
Несогласные с теорией Дарвина стали либо дополнять ее, либо создавать свои, уже антидарвиновские (неодарвинистские), концепции, которые в XIX и XX веке дали свои плоды. Не на пустом месте возникли дискуссии, непонимания и споры как внутри антидарвиновских и неодарвинистских течений, так и их между собой. Каждая концепция брала какие-то отдельные положения в качестве основы, их сочетания и выдавала за свой вариант. Так увеличивалась дифференциация эволюционных идей. Параллельно росло недовольство креационистов всеми этими гипотезами. Во-первых, отчасти это объяснялось тем, что разросшаяся армия антидарвиновских и иных эволюционных гипотез «решала» узкий спектр вопросов, которыми нельзя объяснить все и сразу; во-вторых, поддерживая эволюционную идею и стараясь нивелировать ошибки дарвинизма, они уходили далеко от реальных проблем в исследовании темы происхождения и развития жизни.
Если научный язык эволюционистов и их точка зрения остается более-менее (для них самих) понятной и прозрачной (в теории), то в отношении языка креационистов возникает иная сложность: как объяснять Библию, а именно каким языком? Естественно, креационисты могут использовать только язык науки, поскольку «библейский язык» (тот, на котором писалась Библия) мы не знаем.
Если говорить о книгах Ветхого Завета, то это исторические книги, которые рассказывают нам древнюю историю израильского народа, что же касается книги Бытия, где говорится о сотворении неба и земли, то данный текст воспринимается как эволюционистами, так и креационистами не как реальный исторический период формирования неба и земли, а как легенда или миф, поскольку трактовать и объяснять данный текст языком науки не представляется возможным. Тому есть весомые причины. Данный текст слишком прост и сложен одновременно, он гипотетичен и очень громоздок для обыденного сознания, его краткость и глубина оставляет нам возможность строить свои интерпретации текста и считать его иносказанием, мифом и легендой в зависимости от того, какой точки зрения придерживается исследователь.
Религиозные оппоненты в большинстве случаев этот процесс описывают кратко, пересказывая главу Бытия, а после уже переключаются на иные темы, коих великое множество.
Так, креационизм тоже был не в состоянии объяснить научным языком сотворение земли и неба. Оба направления (эволюционизм, креационизм) стали использовать в своих построениях объективные научные факты – в лучшем случае, в худшем – откровенно обманывать, подтасовывать факты, использовать заведомо неверные сведения и др. В открытых диспутах – использовать нерешенные проблемы другой стороны и критиковать их, тем самым никак не решая их.
Креационисты, аргументированно указывая на принципиальные научные ошибки и просчеты эволюционистов, основываются на тех же научных фактах и сведениях, что и сами оппоненты. Доказывая правоту библейских текстов, мы зачастую сталкиваемся с незнанием креационистами самих библейских книг. Они используют:
а) цитаты из различных источников, заменяя ими библейские тексты;
б) вставляют свои слова и фразы в первоисточник, тем самым искажая первоначальный смысл и значение;
в) применяют библейские тексты непосредственно для защиты собственных положений;
г) не исследуют их подробно, например, не учитывая сопутствующие ссылки;
д) их сводки зачастую наполнены цитатами различных авторов религиозной тематики, а не достаточным исследованием непосредственного текста Библии и ее книг, найденных особенно в последнее время (например, библиотека Наг-Хаммади).
Так, выясняется, что в самой концепции креационизма нет единого мнения, а есть разделения во мнениях и суждениях, рождающие споры, хотя если говорить о том, что Бог создал мир и все, что в нем, – какие еще мнения могут быть???
Внутри религиозных представлений о происхождении мира нет единства, а есть разнообразие идей, с которыми креационисты вступают в споры против эволюционизма с его многообразием мнений, суждений, гипотез. Одни умствования религиозных людей о Боге натолкнулись на умствования ученых мужей о развитии мира без Бога – так оба оказались наполненными противоречиями внутри себя, где и научные, и религиозные мнения оказались стоящими друг друга. В результате получаем результат: «А воз и ныне там…».
Многие ошибки эволюционизма заключаются, помимо всего прочего, в том, как ни странно, что все научные факты рассматриваются в свете эволюционной тематики. Например, это поиск в палеонтологической летописи, прежде всего, не исчезнувших видов живых существ, а переходных форм, которые могут быть вставлены в зияющую брешь представлений о цепочке животных как переходных формы.
Здесь в понимании проблем эволюции, а точнее развития и функционирования систем органического мира, следует, наоборот, не связывать факты с эволюционными умопостроениями, а интерпретировать их без них. С другой стороны, ошибка в том, что наука стремится описать сам факт происхождения мира, дойти до сути и показать, «как же все на самом деле», что является самим по себе ложным путем познания, т. к. познать точно, а тем более описать словами, как Бог или эволюция устраивали живой мир, нам не дано. В этом необходимо себе признаться, и слова Апостола Павла здесь объясняют, почему.
1. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12).
2. «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13:9-10).
Господство материалистической идеологии спровоцировало то, что научное изложение фактического биологического, химического, физического материала стало вестись с эволюционных позиций.
Эволюционизм – позиция науки, а наука оперирует логикой ученых, которые опираются в своих исследованиях на свой ум, получая определенные цифры, проводя различные эксперименты, опыты, наблюдения, используя пять органов чувств и объясняя результаты в рамках своего ума и своей логики. Но существует другая позиция, можно сказать, религиозная, но в данном случае все остается так же, как и в науке. Тем самым креационисты пользуются научными методами в интерпретации библейских текстов. С одной стороны, это имеет положительный эффект, с другой – совершенно не приводит исследователя к научным логическим выводам, а это, тем самым, не позволяет выйти на иной уровень восприятия книги Бытия нежели как иносказание, собрание мифов и легенд. У разных народов найдутся свои мифы и легенды о начале мира и его устройстве, например, мифы древней Греции и др. повествования.
Вопрос здесь кроется в способах познания.
Есть два способа познания мира: ум и вера. В этом кроется принципиальная разница в способах мышления, восприятия и познания мира. С этих позиций и следует подходить к теме происхождения.
Научное мышление позволяет воспринимать мир умом своим посредством вербализации образов. Надо сказать, что это путь, которым пользуется основное научное сообщество и большинство населения планеты.
У человека верующего имеется, помимо этого, не очень продуктивного способа познания, еще и вера.
О вере в Библии сказано следующее:
1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1);
2. «Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7);
3. «Верою познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3);
4. «Ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18).
В свете вышесказанного ищущему человеку следовало бы проанализировать эту информацию. Ломая голову, читая сложным языком написанные научные журналы с подчас расплывчатой терминологией, разобраться в сути предмета, тем более нашей темы, чрезвычайно сложно. Как путь, предлагается заглянуть и в Библию и сравнить.
В Библии указывается, что материальный мир – временный. О видимом и временном мире Бог говорит так:
«Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника, а почитали за богов, правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звездный круг, или бурную воду, или небесные светила. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник красоты, создал их. Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его: потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны: если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? (Прем. 13:1-9);
1. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас». (Еф. 4:5);
2. «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10:17).
Наука есть особый взгляд на мир через систему определенных границ, в первую очередь, например, границей является слово, язык. Чтобы довести до читателя мысль, автору необходимо эту мысль, чувство, переживание перевести на кодовый язык букв и звуков. Любой человек, если ему когда-нибудь приходилось писать сочинение, ответит, что сначала у него зародилась идея, а уж потом она была воплощена в словесную форму, и это, мягко говоря, трудоемкий и неэффективный процесс познания. Выражение мысли, процесс познания идет через границы «своего ума» другого человека. Конечно, познание мира может идти через озарение, интуицию, и тогда мы получаем результат сразу, как бы без особых усилий, но основное содержание процесса познания составляет долгий вымученный процесс «пережевывания» чужих мыслей и идей…
Наука руководствуется умом человеческим. Вера же, как иной способ познания, позволяет истинно верующим найти ответы на любые вопросы, в частности путем тщательного исследования текста Библии.