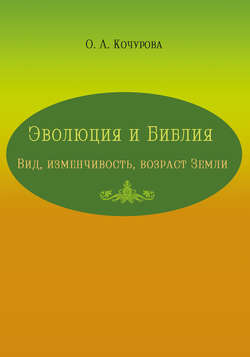Читать книгу Эволюция и Библия. Вид, изменчивость, возраст Земли - Оксана Кочурова - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Вид и проблема вида
1.4. Вид в истории систематики XVIII–XX вв.
Филогенетическая систематика
ОглавлениеГлавной целью классификации, как известно, является максимальное преодоление ее искусственности и приближение к созданию естественной системы. Эволюционное мировоззрение в этом отношении пошло по пути построения «филогенетических деревьев».
В свое время Э. Геккель ввел в науку такое понятие, как филогенез (историческое развитие организмов). С его трудов филогенез начали рассматривать как дерево, от общего ствола которого в историческом периоде формы организмов изменялись и приводили к новым видам и родам. Тогда «философия» филогенезов стала пониматься как отражение естественной системы.
Так, понимание естественной системы как отражения филогенеза делает ее отчасти вторичной относительно последнего. Это переносит методологическую проблематику построения системы с нее самой на построение филогенезов. Оказываются важны не столько принципы построения естественной системы, сколько принципы филогенетических реконструкций, признаки и сходства значимы не сами по себе, а как отражение генеалогических (филогенетических) связей. Центральным является общий метод (принцип, закон) тройного параллелизма между рядами форм в палеонтологической летописи, онтогенезе и систематическом размещении видов; в данном случае в редакции не Агассиса, а Геккеля (42).
Еще Агассис говорил о важности сочетания методов эмбриологии, анатомии и палеонтологии для определения положения вида или иного таксона в классификационной схеме. Но он был далек от эволюционизма, и для него, как и для Кювье, положение таксона в системе означало его место в естественном порядке, в раз и навсегда установленном мироздании. Геккель широко пропагандировал постулированную Агассисом триаду – знаменитый «метод тройного параллелизма». Филогенетические схемы, родословные древа должны строиться на основе сочетания сравнительно-анатомических, сравнительно-эмбриологических и палеонтологических исследований. Эта идей, подогретая личным энтузиазмом Геккеля, захватила современников (80).
Показательна история формирования «филогенетических деревьев». Суть отражения генеалогии рода (вида), преемственности поколений, стала дополняться представлениями о родственных связях других всевозможных видов и родов животных и растений, основанных уже на эволюционной идее, т. е. происходящих одних от других в течение времени.
Так представления о родословном древе органического мира имели столетнюю историю. В 1766 г. последователь К. Линнея немецкий ботаник И. Рюлинг изобразил «естественную систему» растений в виде генеалогического древа. В том же 1766 г. молодой П.С. Паллас писал о том, что наиболее удобно представить систему органических тел в виде древа (а не лестницы!). В 1831 г. Г. Тревиранус (1776 –1834) говорил о происхождении всех живых существ от одного корня и представлял их историческое развитие и систему в виде древа. В 1858 г. Г. Брони изобразил в виде древа систему позвоночных. В 1859 г. Ч. Дарвин опубликовал свою знаменитую схему дихотомически ветвящегося процесса видообразования (80).
Отсюда следует, что иерархическая схема классификации К. Линнея в большей степени способствовала восприятию принципов эволюционизма в дальнейшем, нежели наивный трансформизм Бюффона, Боннэ, Ламарка и Э. Жоффруа Сент-Илера.
Дарвин, сформулировав принцип дивергенции для объяснения возникновения новых видов, не пытался установить родственные связи между ныне живущими и ископаемыми организмами. Он лишь в общей форме осторожно указал, что один вид может со временем дать несколько видов.
Геккель сделал третий логический шаг вслед за Линнем и Дарвином. В 1866 г. он построил «монофилетическое родословное древо организмов», подробнейшее древо позвоничных и древо млекопитающих; на последнем было показано положение человека в системе приматов рядом с гориллой и орангутаном. В 1874 г. Геккель попытался представить в виде единого древа всю историю происхождения человека от примитивных одноклеточных монер, через амеб, через гастрееподобных примитивных многоклеточных, через червей к хордовым; а внутри последних – через ланцетника (представителя бесчерепных), примитивных хрящевых рыб, через двоякодышащих к амфибиям, от них – к примитивным млекопитающим – сумчатым, от последних – к лемурам, настоящим обезьянам, человекообразным обезьянам и к человеку.
Тем самым, создав однокорневую, монофилетическую схему родословного древа, Геккель пошел много дальше Дарвина, который допускал происхождение живых организмов не от одного корня, а от небольшого числа форм: «Я полагаю, что животные происходят самое большее от четырех или пяти родоначальных форм, – писал Дарвин в заключительной главе своей книги, – а растения – от такого же или еще меньшего числа».
Начался период безраздельного господства филогенетики. Все сколько-нибудь серьезные зоологи, анатомы, эмбриологи, палеонтологи принялись строить целые леса филогенетических деревьев. В общем плане одна работа была похожа на другую, но конкретные результаты каждого отдельного исследования имели непреходящее значение для науки. Все то, что читается сейчас в университетских и прочих курсах зоологии во всех странах мира, – разделение многоклеточных на двухслойных и трехслойных, на радиально-симметричных и двусторонне-симметричных (билатеральных), деление позвоночных на анамний и амниот и многое другое – все это было наблюдено, добыто, нарисовано с удивительным изяществом, понято и истолковано в духе дарвинизма филогенетиками разных стран (в том числе и русскими, такими как М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, А.Н. Северцов), так или иначе связанными с самим Геккелем, с его школой или с его принципами и идеями (80).
Безусловно, в отношении живых организмов были найдены общие закономерности в их строении и функционировании, что связывает их, как полагают, узами родства и, следовательно, общности происхождения. Но многое из этого было целиком и полностью истолковано эволюционно, хотя существуют и другие причины объяснения подобных фактов.
Перенос принципов филогенетики на принципы систематики дал эволюционное освещение проблемы реальности таксонов и границ между ними. Почти все теоретики-эволюционисты утверждают условность этих границ, т. е. склоняются к их вполне номиналистической трактовке. Такая позиция характерна для систематиков конца XVII – первой половины XIX в., которая продлилась в XX в. (41, 43).
Объяснение системы через филогенез вызвал разногласия с самого начала. Возникли вопросы: как трактовать филогенез и переводить на язык таксономии, с другой стороны, филогенез не сводим к генеалогии и не может трактоваться так упрощенно (47, 48, цит. по 15).
При таксономической интерпретации филогенетических схем у Дарвина и Геккеля основным является принцип монофилии, однако признание параллельной эволюции как фундаментального свойства монофилетических групп делает невозможным однозначное соотнесение ветвей генеалогического древа и таксонов естественной системы (15). Здесь нам следует признать, что данное научное направление изначально базировалось на утверждениях, явно несоподчиняющихся друг другу.
Так, впервые поднимаются серьезные проблемы критериев отбора признаков (49, 41, цит. по 15). Здесь достаточно четко обозначились две позиции, соответствующие двум трактовкам естественной системы – по Кювье и по Адансону – Жюсье. В первом случае речь идет о небольшом числе значимых признаков, выбранных на априорной основе: такова позиция Геккеля, популярна среди зоологов Гексли, Ленкестера, Гертвига (50).
Вторая позиция строится по большому числу признаков с более или менее одинаковыми «весами»: наиболее обоснована та родословная схема и основанная на ней система организмов, которая поддерживается наибольшим числом признаков (в современной терминологии это – критерий или принцип конгруэнтности), при этом не связанный напрямую с частными адаптациями (принцип Дарвина). Этой позиции придерживаются в основном ботаники.
Так, немецкие систематики Август Эйхлер (1839 – 1887) и Адольф Энглер (1844 – 1930) в предложенной систематике использовали метод, который представляет собой, по сути, генеалогическую интерпретацию естественной системы Гукера – Бентама. Именно Энглер, возможно, первым предваряет собственно классификацию изложением принципов филогенетической систематики: их важную часть составляют правила «прогрессии» – закономерностей исторического развития органов и структур, по которым строится система таксонов (51, 52). Этим он определил на многие годы стиль аргументации классической и в значительной мере кладистической филогенетики.
Итак, находить и выделять в живых организмах прогрессивную организацию структур и функций по сравнению с другими типами или классами, и говорить об их позднем или раннем появлении на Земле как на «эволюционной арене» стали благодаря филогенетической систематике, основанной на эволюционной идее, которая уже тогда являлась своего рода религией и философским мировоззрением в биологической науке.
Но новые идеи фактически не привели к новым методам: принцип монофилии остался вполне декларативным, а в практике классифицирования по-прежнему доминировала общая классическая формула, на этот раз лишь трактуемая в терминах кровного родства, – объединять сходное и разделять различное. Такой подход почти не изменил существующих классификаций, лишь дав им иное толкование (53, 54). Так, английский ботаник Уильям Гукер (1785 – 1865) в работе «О флоре Австралии» пишет, что сторонники и противники Дарвина «используют одни и те же методы и следуют одним и тем же принципам» и что систематики-практики «не должны использовать дарвинистические гипотезы при трактовке видов» (56, р. 1499, курс. ориг.).
Одним из важнейших следствий освоения эволюционной идеи систематикой данного периода стал кризис концепции линнеевского вида. Не столько дарвинизм оказал существенное влияние на кризис, сколько неоламаркизм. О какой бы частной эволюционной концепции не шла речь, довод «против вида» был один: коль скоро виды взаимопревращаются, их нельзя выделять в традиционном смысле как дискретные единицы.
Своего рода предтечей «видового нигилизма» на биологической основе был Алексис Жордан (1814 – 1897), который предложил считать истинными элементарными видами-монотипами мелкие морфологические вариации, устойчиво воспроизводящиеся в череде поколений (Завадский, 1968); тем самым он отверг «линнеевский вид» как базовый объект систематики, заменив его «вариететами» (54, 55). Жордан следовал конценции Жюсье, который определял вид через устойчивость воспроизводства признаков в поколениях.
Таким образом, логическое и эволюционное обоснования сколь угодно дробной классификации на низших уровнях разнообразия фактически совпали. Если эволюционная концепция придает особое значение локальным формам, то нет никаких препятствий считать их «видами» как в логическом, так и в реалистическом смыслах. Так, эволюционные представления дали новый стимул номиналистическому пониманию вида: раз виды непрерывно меняются, они – «человеческое изобретение» и делаются для удобства. В предельном случае любые надорганизменные группировки считаются искусственными (номинализм, XVIII в.).
Одним из ярких выразителей этих воззрений является российский зоолог С.А. Усов. В своем труде «О систематических категориях» (59) он утверждает со ссылкой на Канта, что вид есть некий идеальный образ, ноумен.
Известный русский ботаник-физиолог К.А. Тимирязев в своем очерке по теории эволюции на основании анализа работ Дарвина и Геккеля приходит к заключению, что «вид и разновидность – только… отвлеченные понятия: в природе они не существуют» (60, с. 81).
Но чаще эволюционисты исповедуют умеренный номинализм: виды трактуются номиналистически, тогда как локальные формы вполне реалистически; эта позиция была позже обозначена как биономинализм.
С.И. Коржинский (1861 – 1900) в книге «Флора востока Европейской России» утверждает, что «расы суть истинные систематические и географические единицы. Они подлежат исследованию и изучению как нечто действительно существующее. Между тем виды и подвиды представляют нечто условное» (64, с. 79; 61).
В.Л. Комаров (1969 – 1945) в работе «Вид и его подразделения» утверждает, что понятие «вид …есть идеальное представление об общем типе» (63, с. 250), поэтому «основной единицей исследования надо считать не отвлеченное типовое понятие “вид”, а реальную генетическую группу “расу”, иначе подвид или вид второго порядка» (63, с. 252).
Для отражения такого рода взглядов потребовалась более дробная таксономическая иерархия. С 1860-х годов в оборот зоологической систематики вошли новые таксономические категории – подвид (subspecies, Henry Bates), сборный вид (conspecies, Hermann Schlegel); ботаники особое внимание стали уделять вполне традиционному понятию расы (proles). Со временем было предложено приписывать этим единицам видовой статус и обозначать их линнеевскими биноменами.
Так, немецкие ботаники П. Ашерсон и П. Гребнер видели задачу систематики в том, чтобы давать латинское название каждой морфологически различимой форме (57).
Все это породило во второй половине XIX века мощное движение «дробителей» (так называемая аналитическая школа систематики), согласно которому всякие устойчивые вариации в пределах линнеевского вида, особенно если они имеют свои ареалы, должны получать официальный таксономический статус и получать двойные названия. Что и дало повод обозначить сложившуюся ситуацию второй половины XIX века в систематике как «кризис вида». Подобную позицию обозначили сторонники «широкой» концепции вида в XX веке (54, 55).
Немало было и сторонников объединения, составляющих синтетическую школу систематики, – приверженцев широкой концепции вида, восходящей к Линнею и его предшественникам. Они протестовали против безудержного «производства видов» (подразумеваются «элементарные виды» Жордана и его последователей), угрожающего известному порядку в систематике. Так, Дж. Гукер и Дж. Бентам, которые объявили «крестовый поход» против видодробителей: в фундаментальной сводке «Роды растений…» (Generaplantarum…, 1862 – 1883 гг.) установлено нечто вроде «стандарта» для широкой трактовки вида в ботанике.
Итак, к концу XIX века накопился большой материал по внутривидовой географической изменчивости и было введено понятие подвидов. Накопление числа описанных видов и подвидов животных, растений и микроорганизмов (к середине XX века оно превысило два миллиона) привело, с одной стороны, к «дроблению» вида и описанию любых локальных форм в качестве вида, с другой стороны – стали «укрупнять» вид, описывая в качестве вида группы или ряды географических рас (подвидов), образующих совокупность явно родственных и обычно связанных друг с другом переходами форм. В результате в систематике появились понятия «мелких» видов – жорданонов (по имени французского ботаника А. Жордана), «больших» видов – линнеонов (по имени Линнея). Среди последних стали различать монотипические и политипические виды (последние состоят из ряда подвидов).
Классический период в развитии систематики завершила работа русского натуралиста А.П. Семенова-Тян-Шанского (17), принявшего за основу линнеон и давшего определения различных подвидовых категорий (подвид, морфа, аберрация).
«Глубокий переворот» в области естествознания, наконец, наступил и грозит уничтожить фактически все прошлые великие достижения в области систематики, в том числе иерархию (систему рангов) Линнея. Биологи поняли, что проблема вида – это частный случай «проблемы таксона», вывели из этого заключение о необходимости безранговой классификации: «видовой ранг должен исчезнуть вместе со всеми другими рангами» (18).
Из предыдущего видно, что основы будущей широкой политипической концепции вида закладывались отнюдь не в рамках микроэволюционной (в частности, дарвиновской) парадигмы. Значение последней для систематики конца XIX – начала XX вв. заключается в акцентировании внимания на различиях между низшими таксономическими единицами: коль скоро эволюция начинается с формирования локальных рас, именно они в первую очередь заслуживают внимания систематиков-эволюционистов, причем не только дарвинистов, но и ламаркистов. Данное обстоятельство привело к существенно более дробной, чем в собственно линнеевской систематике, стратификации таксономических подразделений вида, на чем и сосредоточилась в первой половине ХХ в. популяционная систематика.
Тогда же, в первой половине ХХ в. получила развитие и терминологическое обозначение классическая «генеративная» концепция вида: понятие сингамии (65), или сингамеона (66, 67), обозначило вид как репродуктивное сообщество. Эту концепцию удачно дополнили экологи, стоявшие у истоков популяционной (био)систематики, которые также разделяли локальные реальные «виды в природе» и широко понимаемые формальные «виды в классификации». Важно, что один из ее ранних лидеров Г. Турессон прямо указал, что первые – прежде всего экологические единицы (68); позже его идею подхватили многие авторы. Все это способствовало «биологизации» понимания сущности вида и вскоре привело к появлению биологической концепции вида (в узком смысле), акцентирующей внимание не на морфологических отличиях, а на генетической обособленности, поддерживаемой специфическими изолирующими механизмами (69; 43, 44).
Этим названием авторы данной концепции подчеркнули ее именно биологический характер, противопоставив ее морфологической (типологической) концепции как не отражающей биологической специфики данной таксономической категории (45).
Акцент на репродуктивном критерии вида имел два важных последствия. Биологический (в данном узком понимании) вид есть максимальная менделевская популяция, скрещивающаяся «внутри» и репродуктивно изолированная «снаружи». Это отличает вид как от внутривидовых форм (не изолированы репродуктивно от конспецификов), так и от надвидовых таксонов, к которым названный критерий неприменим. Данное обстоятельство позволило заключить, что видовая категория, в отличие от прочих, может быть определена абсолютно – не через различия, имеющие относительный характер, а через собственную уникальную биологическую природу (70, 71; 43, 45).
Итак, суммарно, вид стал рассматриваться как совокупность популяций организмов, наделенных общими морфологическими признаками (типологическая концепция), уникальным составом признаков и свойств (биологическая концепция).
Такое понимание вида, а также утверждение за ним статуса «узлового пункта» эволюции по мере развития популяционной систематики вернуло виду утраченный им статус важнейшей таксономической категории (43, 45), очень скоро признанный эволюционной биологией в целом (72, 73).
Разграничение таксономического (линнеевского) и биологического (в общем смысле) видов, принижение значимости первого популяционной систематикой и связанное с этим видодробительство, выделение разных категорий видов – все это вместе взятое породило проблему вида. Она была обозначена таким образом в первой трети ХХ столетия первоначально в связи с проблемой происхождения видов и превращения географических рас в «полноценные» виды (69), но вскоре приобрела более фундаментальное значение, став одной из центральных в систематике и эволюционной биологии (43, 45; 74, 75).
Различные недоговоренности о проблеме видовой идентификации выражены у разных авторов, пытающихся дать благоприятное определение. Так, ботаник и систематик А.Л. Тахтаджян (14) пишет: «Вид представляет собой важнейшую таксономическую категорию не только для систематики, но и для всей биологии вообще… К сожалению, вид, как, впрочем, и все другие таксономические категории, с трудом поддается сколько-нибудь точному логическому определению. Очень трудно, в частности, дать такое определение вида, которое одинаково хорошо подходило бы как к растениям, размножающимся половым путем, так и к растениям, размножающимся бесполым путем. В одном случае вид представляет собой систему популяций, а в другом случае он есть система клонов».