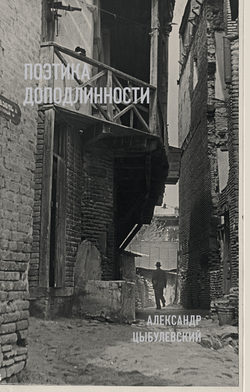Читать книгу Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - Павел Нерлер - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Этюды о Владельце Шарманки
Кумиры и учителя
ОглавлениеЦитата есть цикада.
Неумолкаемость ей свойственна…
О. Мандельштам
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
О. Мандельштам
Особой разновидностью восприятия поэтом времени и его структуры является так называемая «книжная культура»:
Наша память, наш опыт с его провалами, тропы и метафоры наших чувственных ассоциаций достаются ей (книге. – П.Н.) в обладание бесконтрольное и хищное[85].
И сколь бы застенчива и ненадежна ни была эрудиция, она всегда держит при себе вереницу ответных образов – любимых и невыветривающихся. Поэтому каждое «книжное» упоминание и избирательно, и не случайно. По-новому освещая текст, смещая его к упомянутому, оно не просто выявляет начитанность или наслышанность автора, не только указывает на его симпатии или антипатии, но и формирует глубочайший ассоциативный подтекст, разнообразно сцепленный с текстом и неотступно, как за буксиром баржа, следующий за ним.
В исповедуемой Цыбулевским поэтике доподлинности культура – сама по себе (как нечто несиюминутное) – вторична, что, однако, не означает второстепенности. Не будучи отчетливо выраженным предметом запечатления, она является первостатейным средством последнего. Культура обволакивает и процеживает первичный план, пласт непосредственного запечатления, и делает его, как ни странно, более проясненным, хотя временами и причудливым.
Поэт немыслим вне культуры[86]. Он может оказаться без последователей, но только не без предшественников. Большой поэт – словно большой город: своей значимостью и «весом» он во многом обязан тому положению, которое занимает в системе других городов (поэтов), и поэтому при анализе их развития следует различать их, так сказать, самопотенциалы (то есть природные или иные ресурсы, на которых «сел» город, а у поэтов – их талантливость, артистичность, честность) и отдельно – их индуцированные потенциалы (то есть те возможности, те нацеленные на них извне потенции и влияния, проявляющиеся, например, в категории экономико-географического положения городов или литературных традиций и привязанностей поэтов).
Из этого вытекает, что приводимые в тексте имена, обмолвки, реминисценции – словом, все то, что относится к «упоминательной клавиатуре» (термин Мандельштама), – суть генеалогические отпечатки, которые необходимо использовать при нахождении истоков поэта и при выявлении (или даже прогнозе) магистрального русла его поэтики и ее устьевого предела. Тем самым поэт вводится в систему историко-литературных родственных отношений, а критик получает возможность судить о формирующих его компонентах и обрести под ногами твердую почву[87].
Пробежимся же глиссандо по упоминательной клавиатуре Александра Цыбулевского. Она обширна, неоднородна и распадается на фракции.
Встретятся нам и эпические боги и герои Греции и Скандинавии (Одиссей, Афродита, Ясон, Медея, Эдда, Фрейя, Гейрод и др.), атрибуты библейских традиций (Исход, Успение, св. Георгий, Тайная вечеря и др.), музеи (Лувр, Эрмитаж), архитектурные памятники (прежде всего грузинские – Вардзия, Дманисский Сион, храм Баграта и многие другие), ученые (Улугбек, Эйнштейн, Менделеев, Лобачевский), композиторы (Шопен, Моцарт, Сальери), художники (Рембрандт, Гоген, Гудиашвили и любимейший – Пиросмани), литературные персонажи и киногерои (Гамлет, Тарзан, Мастер и Маргарита, граф Монте-Кристо, Кармен) и, конечно же, писатели – от Гесиода и Гомера до Кафки, Брэдбери и Ахмадулиной.
Все мифическое, все бывшее когда-то очень давно – все сориентировано на современность, без чего для Цыбулевского оно лишено особого смысла или интереса. Например, в четверостишии «Елена» (с. 37) вся завязка троянской эпопеи привлечена для иронического осмысления конкретной ситуации:
Тут ни при чем любое имя,
ты – символ, ты – похищена.
И потому для глаз незримо
идет Троянская война.
Легенда, миф и так подозрительны и потенциально недостоверны, чем противостоят протокольному методу Цыбулевского. Поэтому появление мифических персонажей должно быть подкреплено созвучной реальностью и оправдано вещными подробностями (с. 90):
…Недопитые стаканы –
а прекрасное вино…
Но прошли тогда бараны,
пронесли свое руно.
Край Ясона и Медеи
показался мне на миг.
Отшумевшей эпопеи
шум ушей моих достиг.
И с христианской образностью Цыбулевский связан мостиком сиюминутной конкретности (с. 22):
Вдруг – тайной вечери примета –
в подвале нимбам несть числа.
Висят за чернотой стекла
тарелки радужного света.
Конечно, тут мираж случайный:
на кухне керосинки жгут,
и вот – сияние и гуд…
А все же к трапезе той тайной
они каким-то боком льнут.
В этом стихе необычайно трудноуловимый и столь же труднопередаваемый образ раскрыт удивительно точно, по-цветаевски исчерпывающе. Сначала первая строфа неясна. Ее объясняет вторая, которую тотчас же перечеркивает третья, заново возвращая нас к ставшему понятным первому четверостишию, которое, собственно, и есть сам стих.
Проблема сохранности «объяснительных» строф в стихе относится к числу интимнейших и вместе с тем ответственнейших моментов поэтической работы. В данном случае они оставлены, но в большинстве других – опущены, как, например, в этом краткостишии (с. 26):
Еще твои балконы виснут.
Пастух двором ковровым стиснут.
Опять бесснежен новый год.
И странно слово вдруг: исход.
Что касается зодчества, то и оно крайне редко выступает в виде непосредственного объекта стихотворения, что характерно, например, для обуянного «демоном архитектуры» Мандельштама. У Цыбулевского же его основная роль – чисто топонимическая: быть указателем места, его мимоходной привязкой. Поэтому архитектурным упоминаниям чаще всего сопутствуют подобающие местоимения – мимо, около, возле («возле колокольни Анчисхати»), у, над, рядом:
КЛИК
Мимо церкви все той же Кашвети[88],
где напротив хинкали с утра,
приблизительно в девять без трети
мне опять на работу пора…
Иногда разность потенциалов прошлого и настоящего, явленная в щербатых средневековых кладках, наводит поэта и на более общие, заглубленные раздумья:
И памятники архитектуры, и памятники архитектуры, и только один, удержавшийся в слове – минаретик с искоркой на куполе. Закон запустения – закон жизни древностей – они живы, пока тихонько разрушаются… Вторая их жизнь – реконструкция – омузеиванье – смерть. Страшна доступность памятников, не охраняемых – их доверчивость, чувствуешь себя потенциально преступником, словно тебя оставили в комнате с невероятными ценностями незнакомые хозяева, а сами ушли («Шарк-шарк», с. 281).
По сравнению с архитектурой живопись для Цыбулевского – нечто более родное, более жизненное, живущее и незамузеенное. Из сотни с лишним стихов, вошедших в книгу, по крайней мере шесть – «Маргарита», «Вариант вступления», 4-й стих из поэмы «Моленье о лужайке», «Отходы стихотворения „Маргарита”», «Что ты можешь знать заране…» и «Кастрюля и звезда едины…» – связаны с образом и образами любимого поэтом художника – Нико Пиросманишвили:
…Я знаю, выбирать нельзя,
а выбрал бы себе заране
картину кисти Пиросмани,
где кутят старые князья.
Оттуда будет ближе лето,
как мирно катится оно!
И шелестят тугие тенты,
и пьют, и пьют в жару вино.
(«Кастрюля и звезда – едины…», с. 44)
Кроме того, отдельные «цитаты» из полотен Пиросмани (точнее, клеенок) разбросаны и в других стихах, как и в прозе. Любимые и простодушные образы всюду сопровождают поэта, повсюду открываются ему:
…Клеенка черная – ночная степь.
Пыхти, локомотив, – мы не отъедем.
Луну поярче, погремучей цепь!
Потешимся шарманкой и медведем.
…Ах, до чего ты, солнце, чернокудро
и желто, как у Пиросмани лев!
…Когда-то много лет тому назад,
там, под рекою облаков летучей,
ходил баран, нагуливая зад,
на привязи у проволоки колючей…
(«Вариант вступления», с. 28–29)
Крайне мало занимают Цыбулевского театральная и музыкальная стихии – они почти не проникают в его творчество:
В войну – Шопен: шаги, шажки,
телесный цвет. Еще прыжки,
в фойе из зала переходы.
У изголовья жмутся годы.
Вдруг вспомнишь старенький буфет,
где граций чувственное трио.
Померк когда-то яркий свет,
что освещал любой предмет.
Ушло. Теперь и музы нет
мне соблазнительнее Клио.
А Моцарт и Сальери, например, всплывают в прозе «Шарк-шарк» не как композиторы или музыканты, а скорее как общекультурные штампы, но такие, на которых интересно взглянуть в новом ракурсе:
Когда уж нет Моцарта, то самым близким человеком оказывается Сальери – с кем же еще говорить о Моцарте! Короче – ищу Сальери…
Но конечно же – главные привязанности Александра Цыбулевского лежат в сфере литературы и поэзии прежде всего. Из прозаиков он вскользь упоминает лишь Брэдбери («брэдбериевщины фантом»), Кафку, Дюма и более продуманно, не называя – Гоголя и Булгакова (с. 46):
Тут веет тихая отчизна
сожженной частью «Мертвых душ»,
царит идея планеризма:
лети над синью диких груш…
…Все бег, все бег – дождь и луна.
И только медлит Маргарита.
И рукопись не сожжена.
И шапка мастера пошита.
Булгаковская тема прощальных холмов, последнего взгляда сверху вниз звучит и в стихотворении, казалось бы, целиком посвященном Дюма (с. 64):
Единственное чтение – Дюма!
Что может быть волнительней и ближе,
чем сцена, где прощается с Парижем
граф Монте-Кристо с ближнего холма.
Он видит мельтешение огней
и ждет от неба знака или вести.
А крест все тягостнее и трудней
переступившей все границы мести.
Не той эпохи несколько минут –
куда – откуда грозовая нота,
все штрих один определяет тут.
И красный свет, как при проявке фото.
И вечен холм над городом, где кто-то
прощается навек. А кони ждут.
Круг поэтов, упомянутых Цыбулевским, изыскан и не случаен – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Бунин, Блок, Кузьмин, Хлебников, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Цветаева и Ахмадулина. Значительно чаще и глубже других всплывают Мандельштам и Блок. Большинство упоминаний относятся к разряду цитат, о которых О. Мандельштам писал в «Разговоре о Данте»:
Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает[89].
Нет ничего естественнее для поэта, чем вспоминать и нашептывать вдруг всплывшие в памяти излюбленные строчки, двустишия, строфы, стихи – все равно что окликать на улице близких друзей. А раз это естественно, раз это в жизни бывает, то мы обязательно столкнемся с тем же в вещах Цыбулевского. И действительно, цитат в них немало:
– Что может прийти в голову в такое утро при виде полоски воды, обрамленной лугом? // Я видел озеро, стоявшее отвесно (Мандельштам). И еще: Круглый луг, неживая вода (Ахматова). Вспомнил – как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта. // Я ухо приложил к земле (Блок) – Какая прекрасная буквальность! («В гостях», с. 114).
Или:
– Сборник Мандельштама, изданный в Грузии, я бы назвал: «Если спросишь Телиани»… («Момент», с. 120).
Или:
«…О, эти ангелы с крыльями и ветвью! Осените меня в этой духоте, заговорите языком Осипа Эмильевича. «Не диво ль дивное…» («Кутаиси – Кутаис», с. 172).
Или:
…И тут же после позывных по проигрывателю: Лермонтов: «Выхожу один я на дорогу» – высшее мыслимое совершенство. Мандельштам поэтому и дал только отросток кремнистого пути и крик: «И я хочу вложить персты – в кремнистый путь из старой песни». И – я! Да, но… что ж это! Как отогнать мух и сопровожденье домбр? Я хочу – но не тем – чтоб в груди – чтоб дышало – лелея…» («Кутаиси – Кутаис», с. 172).
Или:
О колодцах все сказала Ахматова: «Журавль у ветхого колодца». Окончательность – свойство классики» («Груша», с. 183).
Или:
Вино очень подходило к зною – оно было, как сказал бы Мандельштам, с «муравьиной кислинкой» («Хлеб немного вчерашний», с. 212).
Или:
А у Кузмина: те два крыла напрасных за спиной. Сказать про два крыла – напрасных – высшее. И сколько не колдуй с прохладными и постиранными, все это, так сказать, бескрыло в сравнении с теми окрыленными напрасными… («Хлеб немного вчерашний», с. 215–216).
Или:
…Может быть, угадывалось то, что назвал Пастернак обманчивым порядком творенья: «Порядок творенья обманчив, как сказка с хорошим концом» («Хлеб немного вчерашний», с. 223).
Или:
И я ступлю куда-то в туман, туман, в пропасть, но вместо падения – ко мне понесутся какие-то, черт его знает какие, вещи – туманы, связанные с именем Беллы.
Откуда ей знать, что «вдруг облаком тебя покроет, как в горных высях повелось?». Я вижу это облако, оно у меня перед глазами, оно покрыло меня, а как же она сказала, не видя? Непостижимо. // Мне не нужны чужие видения туманов? («Хлеб немного вчерашний», с. 228).
И наконец, целая цитатно-реминисцентная линия в прозе «Шарк-шарк» – тема мандельштамовских ассоциаций:
…Тут машину обогнала старинная карета на рессорах, описанная Мандельштамом в отрывке «Путешествие Палласа» – в ней сидел сам Осип Эмильевич – призрачный, как и полагается призраку, – с лицом, увеличенным в десятки раз по сравнению с фотографией на документе заштемпелеванном: Воронежский городской тр. (трамвай или транспорт?). Я опустил боковое стекло и на лету подхватил брошенный им предмет – тупую вилку двузубую, вибрирующую. // – Не ищи в нем зимних масел рая. / Конькобежного фламандского уклона. // – Вот тебе – камертон! «Самовитое» слово. Навпредшествующее. Слово, не нуждающееся в увиденном. Ведь не в увиденном оно… // Карета повернула и покатила, должно быть, к Майдану. Забрезжила благодаря курдам. Вспомнил – а у Мандельштама – не курды, а курдины (примирившие бога и дьявола) (с. 258).
Или:
– Не ищи в нем зимних масел рая. / Конькобежного фламандского уклона. // «Самовитое» слово. Где ты?» (с. 286).
Или:
…Каков же итог? Проносил бесполезно камертон в кармане – ни одного «самовитого» слова. «Не ищи в нем зимних масел рая, конькобежного фламандского уклона». Что это, о чем? С ума сойти можно. Зимние масла рая. Блаженное бессмысленное слово. Эолийский высокий строй[90]. Дорастем лет через сто. Шарк-шарк – родное чужого. Где-то родное родного? И вдруг – чудо, рядом за соседним столиком молодые ребята – разговор: – «…никакое это не „самовитое” слово – зимние масла рая, конькобежный фламандский уклон, – это просто картина зимнего Воронежа в негостеприимный год для поэта…» // И я выпил за этих мальчиков, за родное родного… (с. 304).
Как видим, подавляющее большинство такого рода текстовых привлечений тянет к Мандельштаму. Мандельштам и Блок – единственные, у кого цитируются не только стихи и проза, но и статья или дневники («„Муравьиная кислинка”, „самовитое слово” – Мандельштам; Блок – чувство грозы, когда ее ничто не предвещает» (с. 136), различение культуры и цивилизации – враждебных друг другу (с. 299) и наконец: «„Обедал на вокзале одиноко” – есть в дневниках у Александра Блока»). Три поэта удостоились чести быть приведенными в эпиграфах – Пушкин, Блок[91] и вновь Мандельштам.
Доминирующая тяга к Мандельштаму проступила и в реминисценциях – цитатах без официальной ссылки[92]. Такой скрытный и утонченный вид цитирования применяют только к любимым, к насущным авторам, и именно таков для Цыбулевского Мандельштам. Вот несколько примеров:
Или в прозе:
Не три Казбека, а три встречи. «Одну из них сам бог благословил»… («Казбек», с. 154).
А в прозе «Шарк-шарк» мы уже проследили целую реминисцентную линию, где мандельштамовские ассоциации являлись кульминационным конструктом.
В принципе, разумеется, любая ассоциация реминисцентна, если сферу первоисточника вынести вовне самой литературы в биографические пласты писателей, их поколений и эпох. В таком понимании бездомность, титул Председателя Земного шара и другие хлебниковские атрибуты, вкрапленные в последующие стихотворения, словно матовые халцедоны в карадагскую андезитовую породу, – реминисцентны (с. 38):
Шар земной и Хлебников бездомный.
Без него – бездомный шар земной.
Есть кому и некому напомнить
Эту связь бессвязности самой.
Реминисценции могут цепляться и за общие, родовые черты поэта, и за отдельные детали или настроения одного стихотворения (в этом риск безотзывности, читательского непонимания), как, например, в этом, опирающемся на бунинское «Одиночество» стихе (с. 102):
Так суждено: за кругом круг опять.
Но как бы все по кругу ни крутило –
тому что было – больше не бывать,
и лучшее всегда лишь то, что было.
А было так: закрой глаза – темно.
Темно, но свет единственный упрямо…
Высокое, высокое окно,
где Буниным придуманная драма.
И выплывают сразу – тоскливые, дремотные бунинские строчки: «И ветер, и дождик, и мгла… Я на даче один, мне темно… Ты мне стала казаться женой… Хорошо бы собаку купить» – цитата есть цикада, реминисценция преобразуется в люминесценцию.
Не обошлось и без пушкинской реминисценции: одна из прозаических вещей у Цыбулевского попросту озаглавлена пушкинской строкой (своего рода название-эпиграф) – «Плывет, куда ж нам плыть?..»
Воистину «блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны» получил и претворил в своем творчестве Александр Цыбулевский. В его «книжности» явлена высокая культурная готовность и «образованность»:
Образованность – школа быстрейших ассоциаций. Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намекам – вот любимая похвала Данте[93].
Об этом же ярко и непринужденно свидетельствует и его диссертация о русских переводах поэм Важа Пшавела, жанрово написанная довольно близко к мандельштамовскому «Разговору о Данте»: говоря не о себе, – и говоря тонко, умно и интересно, – высказываясь о выбранном (не случайно выбранном) предмете, поэт исподволь («потихоньку, постепенно, вдруг») – раскрывает и собственные поэтические убеждения.
Попытки изложить свое кредо встречаются у Цыбулевского и в прозе, и в стихах. Тем самым он как бы не только автор своих вещей, но и проавтор критических статей о них, ибо главное о себе он говорит сам, многое из того, к чему подводит его творчество, – уже говорилось, называлось по имени (недаром у Цыбулевского так легко искать и так приятно находить характеризующие его эпиграфы).
Но не надо смешивать авторитет Кумира с авторитетом Учителя – это разные вещи, даже если они и совпадают в одном лице. Повторяю, речь до сих пор шла лишь об одной составляющей книжной культуры – о круге привязанностей поэта, о его опоре, так сказать, на «чужие» книги. А как обстоит дело с другой составляющей? Как та же культура отразилась и преобразилась в самом творчестве, в собственно поэтической материи Цыбулевского?
Вчитываясь в работу о Важа Пшавела, видишь, как напряженно всматривался Цыбулевский в различные, глубоко специфичные поэтические концепции Заболоцкого, Цветаевой, Мандельштама и Пастернака, претворенные ими в стихах и переводах (в этом смысле стихи и переводы не изоморфны, не тождественны друг другу). Его взгляд беспристрастен, объективен, внимателен, но ревнив. Встречая что-либо близкое, созвучное ему самому, он сразу же углубляет и расширяет мысль, привлекает уместные высказывания самих поэтов. Сопоставление концепций этих четырех поэтов с творчеством самого Цыбулевского подводит к выводу о том, что мандельштамовская доминанта, столь отчетливо проявившая себя при анализе круга «кумиров», в кругу «учителей» выражена слабее – здесь вровень с Мандельштамом с его «гнутым словом» и ассоциативной, сконцентрированной строфой становится и Марина Цветаева[94], опьяненная словом и экспрессивной мыслью, а в ряде отношений – и Пастернак. Наименее близка Цыбулевскому эпическая и живописательная поэтика Заболоцкого, но именно с Заболоцким совпадает такая черта поэтики Цыбулевского, как оглядка на ризницу русской поэзии – «высокие повторения – гулы, отзвуки, эхо всей литературы» (РППВП, 5).
Эта мысль о Заболоцком (о Заболоцком и о себе!) развивается в главке о поэме «Гоготур и Апшина»:
…Цель Заболоцкого – перевести данный текст наилучшим образом. Средство осуществления – русская классическая поэзия – перевод акустически заполняют ее гулы, отзвуки, эхо. Роль читателя пассивна, его поэтическая подготовка может быть невысока, в уши ему не вливается ничего такого, что бы он не слышал, ничего режущего или настораживающего. Это не делает стих подражательным или безликим – тут есть своя стать, своевольные и невольные приметы и повадки (выделено мной. – П.Н.)[95].
Таким образом, у Цыбулевского мы находим то же, что Тынянов находил у Блока, а сам он находил у Заболоцкого, – гулы, отзвуки, эхо русской классической поэзии. Ко времени Цыбулевского русская поэзия уже претерпела существенную метаморфозу, прочно впитав в себя соки Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Маяковского, в меньшей мере – Хлебникова.
«Мера естественности» столкнулась с «мерой исключительности» и качнулась от легкости к затрудненности, от гладкости к шершавости. Цыбулевский выступает как поэт, глубоко усвоивший, воспринявший и перенявший новые традиции, новые «приметы и повадки». Такой феномен обновленной культурности поэта, увы, не так уж част в современной русской поэзии (вообще говоря, в незнании своего русла, в утере поэтических критериев – один из глубочайших и трагичнейших ее парадоксов).
И тем значимее на этом фоне все еще малоизвестное у нас творчество Цыбулевского, одного из культурнейших наших поэтов. Его стихи – помимо культуртрегерской миссии – место встречи, переслаивания и совместного выхода на поверхность многих лучших пластов русской поэзии – и прежде всего мандельштамовских, цветаевских и пастернаковских.
Обнаруживая в себе бессознательное сходство, родство с другим поэтом или же сознательно прививая себе что-нибудь из его арсенала, перенимая модуляции и тембр его голоса-стиля, Цыбулевский не уподобляется своим учителям, не перевоплощается в них, но сплавляет их в нечто своеобразное, самобытное – свое. А компоненты сплава, на первый взгляд, таковы – цветаевское (и отчасти мандельштамовское) отношение к слову – «одержимость словом», мандельштамовское, концентрированное отношение к строчке и пастернаковское – к строфе (подробнее об этом ниже). В этом сплаве нет ни безликого эпигонства, ни подозрительного эклектизма – тут есть своя стать, «не заимствование и присвоение, а свободное и законное владение наследством» (РППВП, 70).
Однако уже из анализа видно, что поэзия Цыбулевского – великолепная мишень для любителей упрекать в пресловутой «вторичности», «книжности», «литературности» и прочая. Убежден, что эти упреки – абсурдны. Но не потому, что они безадресны или несправедливы, а потому, что под ними нет эстетической почвы.
Ярлычок «вторичность» изобретен, по-видимому, теми, кто от имени науки полагает, что ее главная цель состоит именно в изобретении ярлычков (теория) и в их расклеивании (практика). Искусство же, и поэзия в том числе (а может быть – и прежде всего), не таково. Оно в принципе не может быть вторичным; или, наоборот, всякое искусство всегда вторично – все зависит от того, что под вторичностью понимать.
Чаще всего под ней подразумевают традиционность, литературное преемство, трактуемое почему-то как эпигонство и несамостоятельность. Такой взгляд несостоятелен. Любой человек «вторичен» уже потому, что у него есть отец и мать. Ни детям родителей, ни родителям детей выбирать, к счастью, не дано, и уже поэтому нехорошо упрекать ребенка в том, что его родители якобы чем-то не хороши, или в том, что он похож на своих родителей: других у него и нет, и не должно быть!
Вторение – не враг творения, а, наоборот, залог его. Упрек в стиховтворении – не упрек, поскольку главное в стихотворении – совсем другое: подлинно оно или халтурно, глубоко или поверхностно. Противопоставление «первичное – вторичное», если угодно, аналитично и познавательно, но отнюдь не оценочно – и не нужно этого забывать.
Но ни чистое новаторство, ни чистая традиционность – невозможны. В словесном искусстве существуют жанры, вторичные «принципиально» – то есть прямо опирающиеся на некий литературный первоисточник. И это ни много ни мало – художественный перевод, воссоздающий («ценой потерь и компенсаций», как удачно выразился А. Цыбулевский) национальный художественный текст в силовом поле другого языка.
Второй пример – пародия, то есть жанр, принципиально опошляющий первоисточник, нацеленный на него под таким углом зрения, чтобы выставить его в убийственно смехотворном виде (чаще всего «атаке» подвергаются стилистические или этические огрехи автора, гораздо реже – но это и есть самое трудное – пародируется сама его поэтика).
В-третьих, центон – то есть стихотворение-одеяло, сшитое из строчек-лоскутков, принадлежащих различным уже написанным стихотворениям одного и того же или даже нескольких разных авторов (если в европейской традиции жанр центонов окрашен комически, юмористическими красками, то в литературах Дальневосточного региона мы встречаем и совершенно серьезные аналоги его – произведения, почти сплошь составленные из цитат и реминисценций из древних).
И наконец, сама критика как самостоятельное искусство – а такой взгляд на нее вполне правомерен – так же должна быть отнесена к разряду принципиально «вторичных» литературных жанров.
«Вторичность» как упрек сомнительна в связи и с таким немаловажным обстоятельством. Поэзия – во всяком случае для поэта – та же жизнь: это ее плоскость, синоним и выражение одновременно. И стихи уже потому неповторимы, непохожи друг на друга, что судьбы писательские тождественными быть никак не могут – никакую копирку между биографиями проложить нельзя. И следовательно, какова бы при этом ни была лексическая, стилистическая или же иная внутрипоэтическая близость (или даже зависимость!) разных поэтов, говорить в таких случаях об эпигонстве, о перепевании и пр. и неправомерно, и бестактно. К тому же это и ненаучно, поскольку здесь налицо явная подмена целого (поэзия, стихотворения) его частью, компонентом, аспектом (стилистикой, лексикой и т. д.).
Если Пушкин любил и писал о своей любви, то это не значит, что тема любви после него закрывается, а соответствующие этой теме стихи классифицируются как эпигонские (в таком случае Пушкин был бы точно такой же эпигон, как и все прочие). И пушкинское «Я вас любил…», и, скажем, «Первые свидания» Тарковского – шедевры русской любовной лирики. Но они не перепевают друг друга – и не потому только, что сама тема необъятна, еще и потому, что жизненный опыт, судьба, время жизни двух этих поэтов – резко не похожи.
В общем-то у всех русских поэтов и тематический, и языковой арсенал примерно одинаков. Но гений (или талант) каждого из них организует их творчество всякий раз по-своему и, в итоге, бесконечно разнообразно. Поэтому говорить об эпигонстве и о вторичности – значит оглуплять и опошлять самое поэзию: это все равно что делить и раздавать «по блату» космос. Ибо, согласитесь, невозможно пережить чужое горе так же, как свое, невозможно прожить вне или мимо своей эпохи. «Времена не выбирают, в них живут и умирают» – как прекрасно сказал об этом Александр Кушнер.
85
ОМ. 3 том; стр. 389.
86
Ср.: «Для молодого Мандельштама, источник ценностей – культура в разных ее исторических формах. Это те сферы, в которых его поэтические ассоциации получают свой заряд» (Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1972. С. 361).
87
О необходимости этого писал О. Мандельштам в статье «Барсучья нора»: «Установление литературного генезиса поэта, его литературных источников, его родства и происхождения сразу выводит нас на твердую почву. На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан…» (ОМ. 2; 252).
88
Церковь Святого Георгия на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
89
ОМ. 3; 220–221.
90
Неточная цитата из стихотворения О. Мандельштама «Я по лесенке приставной». В оригинале – «эолийский чудесный строй».
91
Влияние Блока как поэта особенно ощутимо в первой поэтической книжке – «Что сторожат ночные сторожа».
92
Этот прием широко использовался европейскими схоластами («центоны») и дзэнскими дальневосточными поэтами (прием хонкадори в японском стихе). В теоретическом плане проблема реминисценций поставлена и отчасти проанализирована Ю. Н. Тыняновым в статье «Блок». Подчеркнув, что Блок выделял реминисценции в своих стихах графически (разрядкой), что сближало их с собственно цитированием, Тынянов писал: «Он предпочитает традиционные, даже стертые образы (ходячие истины), так как в них хранится старая эмоциональность; слегка подновленная, она сильней и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности» (Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965. С. 254).
93
О. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967. С. 10.
94
Влияние М. Цветаевой очень заметно в прозе Цыбулевского, в ее слоге и общей стилевой направленности: цветаевское стремление сблизить, слить семантическую и ритмическую линии воедино проявилось здесь хотя бы в частоте использования тире (подчас за счет авторской глухоты к остальным орфографическим элементам, например к запятой).
95
РППВП, 43. Иной подход отмечает Цыбулевский у Мандельштама и Цветаевой, там – «…все не эталонно, не образцово, все как бы не по правилам. „Легкость” соответственно заменена „затрудненностью”. Предполагается читательская подготовленность и активность. Результат творчества словно еще хранит следы процесса – подан не остывшим и еще дымится. Речь слышна не отзвучавшая, дано само говоренье, – явственен „исполнительский порыв” – термин Мандельштама» (Там же).