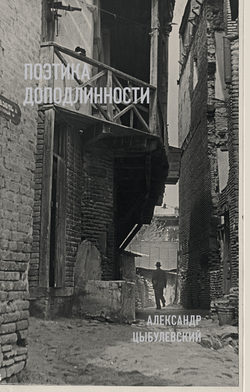Читать книгу Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - Павел Нерлер - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Этюды о Владельце Шарманки
О соотношении прозы и поэзии
ОглавлениеО если бы переписать стихами,
что прозой складывалось набело.
А. Цыбулевский
А может быть, удел прозы: история стихотворения – пусть даже и ненаписавшегося.
А. Цыбулевский
Во всем возможность стихотворения…
А. Цыбулевский
Творчество Александра Цыбулевского показательно удивительной отчетливостью и откровенностью проявления упомянутого соотношения прозы и поэзии. Рефлекторность и пассивность его прозаического созерцания, высокая ответственность и избирательность поэтического разыгрывания природы обнажаются им с полным осознанием их соподчиненности[54].
Мандельштам как-то заметил, что «в поэзии важно исполняющее понимание, отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее»[55]. Понимание и означает исполнение, покорное побежденному материалу – и в каждом конкретном случае чуть ли единственно возможное.
Но чему, собственно, отдается поэт? И результатом чего становится наше его понимание?
Результатом чуткого вслушивания и вглядывания внутрь и вокруг себя, итогом перманентного созерцания и восприятия жизни. Круг снова замкнулся.
В случае Цыбулевского единородность и слитность его стихов и прозы феноменальны. Его проза – не что иное, как экзальтированный дневник и как раскрытый черновик его стихов, одновременно проза – лучший комментатор темных, неясных мест в стихах (своего рода археологический раскоп, обнажающий невидимые с поверхности культурные слои стихотворения). Прочтя стихи и взявшись за прозу, ясно видишь, как в ней (прозе) копошатся будущие (нами только что прочитанные) стихотворения. Словно народившиеся только что оленятки на своих спичечных ножках, они упорно пытаются выпрямиться, но все время спотыкаются и неуклюже падают – до тех пор пока, падая и поднимаясь, не научатся стоять твердо.
Перефразируя Пастернака – «так начинают жить стихи»: зачатие стихотворения, его становление и рост обнажаются перед читателем с неслыханной доселе откровенностью.
Покажем это у Цыбулевского на «дагестанском» примере – прозе «Хлеб немного вчерашний» и стихотворении «Кубачинский орнамент»[56]. Вот эти стихи:
Длинный клюв на солнце золотится.
Что такое? Не упасть ли ниц?
По дороге человекоптица,
В черном фраке – человекоптиц.
Как же от аула отлепиться,
Для чего мне покидать аул?
Но мелькает человекоптица,
Человекоптиц уже мелькнул.
Белый плат опущен до бровей,
Оглянись, несущая кувшины, –
Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.
Итак, начнем:
…Что такое чернь? То же серебро, но смешанное с серой. Температура плавления черни на несколько десятков градусов ниже температуры плавления серебра. И это тоже искусство – вовремя перестать дуть из так называемой фефки, ведь можно расплавить саму вещь.
Или:
…Как ни далеко ты, Дагестан, я уже кое-что умею, разбираюсь в твоих орнаментах, кое-как дую в фефку… умею. // Странно, почему-то восточный затейливый орнамент стал светом тех дней – светом, пришедшим издалека, из каких-то дореволюционных Кубачей, где старик постигал свои серебряные премудрости… И приходят люди в бурках… // Дагестан – тридевятое царство. // Дагестан, моя чернь! Дагестан моей мечты – то всплывал, то погружался, погружался и всплывал…
Или:
…Я непростительно прошел сегодня мимо двух человек: один из них – предсказатель – стоял, прислоняясь к дереву, с попугаем на пальце. Надо было заплатить мелочь какую-то уже за одно то, что попугай у него не улетает, а только переступает с одного пальца на другой, и обратно, а незаметно, чтобы у птицы были подрезаны крылья.
Или:
…Вчерашние птицы, вчерашние птицы. А что эти птицы? Не вспомнить…
Или:
…Кубачи. // Первый крик: – И можно было прожить без этого?! По дороге человекоптица /… человекоптиц. / Длинный клюв на солнце золотится. // Первое: И можно было прожить жизнь и никогда не увидеть это? // Второе: Так вот откуда 1001 ночь!
Или:
…А как же продолжение стихотворения о человекоптице? Что-нибудь о чибисе, ибисе египетском с клювом? А вчерашнее море с плавающими горьковатыми листьями?
Или:
…Что же снится в первую ночь в этом ауле? Мне – летающие люди и сам я учился летать. Но об этом подробнее после, в каком-нибудь отрывке, «Сон». А может быть, тут все сон? И этот фарфор, и эта щель в другую комнату с мерцанием медных подносов. И эти потолки, и эти потолки. Сейчас я расскажу, каким должен быть потолок: балка большая одна и балочка поменьше, поперек – много – и сверху поперек балочек обшивка. И ковры внизу. Не забудь про сон свой. Да, жизнь, оказывается, должна быть украшена – вот в чем суть – смотри обои – как они ловко огибают балку! И не боятся ширпотреба. В конце концов, дверным ручкам не обязательно быть уникальными. Воскресенье здесь в четверг. С длинным клювом человекоптиц. А утром мусульманский конь бьет копытом на противоположном склоне. Ковры. По ним ползает собиратель конфетных бумажек навощенных. // Конечно, я забыл свой сон.
Или:
…Аул – аул! // Увел-таки мусульманского коня муравей. Подошел и увел по тропинке. // По зеленому склону напротив холма бежит девочка в красном платьице. А в темноте эта белизна покрывал за плечами женщины, подобная прохладным крыльям. Летание, летающее было в воздухе самом. Так я вспомню свой сон. // Постиранные крылья. // А у Кузмина: те два крыла напрасных за спиной. Сказать про два крыла – напрасных – высшее. И сколько не колдуй с прохладными и постиранными, все это, так сказать, бескрыло по сравнению с теми окрыленными напрасными. // Я еще не гляжу на аул – боюсь. Скажем пока так: какой-то фокусник швырнул колоду карт, и застыли карты в воздухе бесчисленными плоскостями – плоскими крышами. Сколько веков длится этот фокус? // Стоят на полке большие кувшины – мучалы без ручек. Как их носят женщины – тайна для мужчин. – Вот тут так этим как-то обвязывают длинной белой материей, – объясняет Гаджи. Тупость лиц, которая не тупость. Тупые разговоры умных глаз. Красивая девочка хозяйки тут, и там у другой, и приятно спросонок слышать переступание босых ног по ковру. Девочка чистит медную посуду. Женщина идет за окном с огромным тюком трав. Ты так всматриваешься в сегодняшний день, точно не было вчерашнего и позавчерашнего. И сегодня ведь плавают вчерашние осенние листья в Дербентском море. И эти черные худые прожаренные типы сидят в чайхане. – Все мы евреи, – заявили они с гордостью. А чай подавала и подавала еврейка-чайханщица разбитная. Но можно ли оторваться от сегодняшнего дня, от этого аула? // От того аула отлепиться, отклеиться. Зачем? Мелькает человекоптица… Что за наважденье с этой птицей? // Оторвать склонившуюся тень. / но мелькнула человекоптица, / унесла… день. // Я в ауле! Я допущен в аул! Тень орла непостижимо мягко обрисовала контур горы. И дети в парадных штанишках. Сопли с конфетами. Остро пахнущие конфетами горы конфетных бумажек. // И коня уводит по тропинке /… человекомуравей. // Синий аул и белый. Белый и синий. Медный, черный, прокоптелый. Ты посмотри на эти кувшины, а потом толкуй, что должно и что не должно быть украшено. Отсутствие украшений – стиль нашей эпохи? Тронуть резцом – оставить след на меди… Живут, живут кувшины, не молчат. Этот утолщен в этом месте в осуществлении каприза. Стали приданым прокопченные эти бока. Тут в каждом доме такая комната-музей, с медной посудой и фарфором – голубыми средневековыми китайскими чашами-пиалами в трещинках. // А с утра кто-то все на чем-то играет вдалеке внизу. Завязывается вчерашняя свадьба. // И это не просто музей – в каждом кувшине вода – они служат – вот почему они дышат. Они живые. И камины резные. Резные камины. И ковры к настроению. И настроение к ковру. // Застыло сфотографироваться, держа в руке чеканный чернью пояс. Не различить кропотливого узора. // Пекарь в пекарне сказал: «Есть хлеб немного вчерашний…» Немного вчерашний. Вы ели хлеб немного вчерашний? // Ощущенье бесконечности на этих улочках, которые кружат, виясь. Никогда теряющаяся прямая не даст такого ощущения бесконечности. // Душа меди не меньше, чем душа камня. Я вошел в душу меди.
Или:
Всходит солнце, бросая светлое пятно на ковер. В том же месте, что вчера и что завтра. Пятно начинает перемещаться, расширяться, сужаться, делиться. // О чем молчат чаны-котелки? За окном Кубачи всегда в одном и том же ракурсе. А сколько их, если начать ходить? // Что такое, не упасть ли ниц? / Длинный клюв на солнце золотится – / По дороге человекоптица, / Или как там – человекоптиц. // А как же будет без плоских крыш? Во-первых, сократится пространство, во-вторых, откуда смотреть сверху на свадьбы?..
Или:
…Должно быть, так же как аистов в Бухаре, – мне не удастся сфотографировать – уловить самое, казалось бы, тут частое: одинокую фигуру женщины высоко на плоской кровле с развевающимся за спиной белым покрывалом, всматривающуюся куда-то (женственно глядящую в морской бинокль)… Ухитряется, оставаясь – исчезнуть.
Или:
…Идем за деревянными ложками. «Женщина с деревянными ложками» оказалась мужчиной. // – Аул – сумасшедшие абстракции плоскостей над коровами. // Одно из главных чудес – пополнение запасов воды из родника. Всегда полные кувшины в музее-комнате. А солнц столько же, сколько подносов. // Ты в платке… до бровей. / Посмотри, несущая кувшины, / Как коня уводит… // Ослы кричат похоже на несмазанные двери.
Или:
Опусти сегодня до бровей / Белый плат – несущая кувшины. // Кубачи дают себя увидеть с противоположной горы. // Что такое, не упасть ли ниц? / Длинный клюв на солнце золотится, / По дороге человекоптица, / В черном фраке человекоптиц. //…Туман – спасибо. // Твоего коня увел с вершины / Красный человекомуравей. / Мне чужие не нужны туманы…
Или:
…Спасибо, туман. // Туман – женского рода. // Если бы я был птицей, я летал бы вслепую в тумане. Туман и есть ощущение птицы с закрытыми глазами…
И вот, наконец, долгожданный итог:
КУБАЧИНСКИЙ ОРНАМЕНТ
Длинный клюв на солнце золотится.
Что такое? Не упасть ли ниц?
По дороге человекоптица,
В черном фраке человекоптиц.
Как же от аула отлепиться,
Для чего мне покидать аул?
Но мелькает человекоптица,
Человекоптиц уже мелькнул.
Белый плат опущен до бровей.
Оглянись, несущая кувшины, –
Твоего коня увел с вершины
Красный человекомуравей.
Мы проследили, насколько это было возможно, за корневой жизнью стиха, прогулялись по его подземным лабиринтам. На наших глазах он болезненно вызревал и прорастал из своего зернышка. Слепо хватаясь за наиболее питательные для себя импульсы – ощущения, впечатления и представления (большинство из которых только пробовалось на зуб, а затем отбрасывалось), бросаясь из стороны в сторону, принимая или отвергая уже имевшиеся в почве полости и прорывая новые ходы, – стих исступленно и решительно тянулся вверх, на поэтическую поверхность. И вот уже он стеблится на воле, и вокруг неостывшего всхода – сырая горка разрыхленной земли. Там, внизу остались прозаические горизонты, те «тысячи тонн словесной руды», разворошенные во имя поэтического слова, тот самый ахматовский «сор», из которого «растут стихи, не ведая стыда».
Сходную физиологию стихов можно проследить почти во всех прозаических вещах Цыбулевского, но особенно отчетливо в таких, как «Хлеб немного вчерашний», «Шарк-шарк», «Ложки» и «Казбеги». В прозе можно встретить и немало собственно стихотворных строк, уже оторвавшихся от прозы, но так и не получивших прописки в стихах, например: «И сохранить, как старый ювелир, / Презрение к шлифовке ювелирной».
Есть там и немало поэтических фраз, несущих на себе печать поэтического метра и звучащих как строки стихов, но, однако, еще не осознавших себя (и, следовательно, не оформившихся) в таком качестве. Вот лишь несколько примеров:
«помню упругость живую доски», «так сухо меж брызг водяных», «этот крик любви и власти», «мне чужие не нужны туманы», «Орнаменты, орнаменты, орнаменты. И на пути орнаментов – оконца».
Таким образом, окна и двери в творческую лабораторию Цыбулевского открыты круглосуточно и настежь (немного настежь): сквозняк обозрения. Уже в оглавлении «Владельца Шарманки» вы встретите такие, например, откровенные заголовки: «Отходы стихотворения „Маргарита”», «План стихотворения „Весна”», «Пропадает стихотворение» или «Строфы для третьей книги». Читатель, которого не каждый поэт допускает даже на склад своих стихотворных циклов, не может не поразиться – полный обзор, все на виду, даже поэтические гвозди – рифмы – лежат на самом свету: «название села – Ицари (с рифмой исстари)», «аэродрома, дома – рифмуются с чуточку грома» и т. п.
Разоткровенничавшись, поэт иногда обнажает не только прозаические потоки, питающие поэзию, но и ее глубинное, подпочвенное питание – поток сознания. Например, в прозе «В»:
В начале было слово – им все и закончится, – как выразить, что ничего, кроме слова, уже для тебя не осталось – ощущенье такое в саду. В этом саду – этот сад – другой – не тот – тут другое – а что? У буфетчика в холодильнике рыба – локо – безусый сом – побрызганный уксусом – дзмари – вот уже и сфера слова – волны, валы, волы. Синтаксис, где в конце строки – рыба – и проплывет, проплывет рыба – где? – в саду, саду, и далее головокружительной следует быть синкопе – анжабеману: ибо. Кажется, споткнулся, а это плавный на самом деле переход. // Рыба и далее, далее – ибо – запланированное запинанье без запинки. // Безразлично – съедена, не съедена, съедобна ли…
Этот иррациональный отрывок всплывет потом строфой стихотворения. «В саду»: «Какие волны разом набегали / И воскрешала рыб тархун-трава. / Бессмертна рыба в имени „цоцхали”. / Воистину и мертвая жива!..»
Как бы то ни было, но существеннейшим моментом прозы Цыбулевского является не автономность ее от поэзии, а их соподчиненная взаимосвязь – как смежных уровней словесности. Проза – это предпоэтическое звучание, питательный пьедестал поэзии, что, впрочем, совершенно не мешает ей прекрасно себя чувствовать и на собственном уровне, вызывая заинтересованный читательский отклик.
Этот иерархический симбиоз прозы и поэзии Цыбулевского предопределен и обеспечен целостностью его литературной личности, единым подходом к словесному материалу, к слову – как к чему-то родовому для прозы и поэзии и чем-то роднящему их. К этому следует присовокупить и всю общность большинства из применяемых поэтом чисто стилевых приемов.
Поэтому в дальнейшем те или иные элементы и нюансы литературной работы Цыбулевского будут характеризоваться в свете ее восприятия как некой органичной целостности, именуемой по ее высшему ингредиенту – поэзией, а проза – как таковая, сама по себе – будет обсуждаться и оговариваться лишь изредка, в случаях явной необходимости.
54
См. эпиграфы.
55
Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 1967. С. 6.
56
От Кубачей – дагестанского аула, знаменитого своим ювелирным промыслом (чернью и др.).