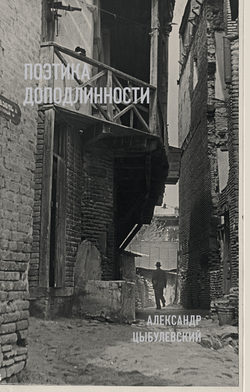Читать книгу Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - Павел Нерлер - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Этюды о Владельце Шарманки
Доподлинность и художественное время
ОглавлениеОгромный флаг воспоминанья за кипарисною кормой…
О. Мандельштам
Что может лепет голубиный, когда необходим сюжет!..
А. Цыбулевский
По своему складу и миссии Цыбулевский не пророк и не служитель культа, а обыватель, мирянин, будничный человек. Он ничем не выделяется в толпе, он старается ни во что не вмешиваться (это ему, разумеется, не удается, и он очень огорчается).
Он – зритель, а не созерцатель. Мистический опыт ему совершенно чужд, тоска по вечности, пророческие прозрения – не для него.
…Наискосок – в небытие – лаваш:
девчонка с ним из лавки побежала.
Скажи на милость, что еще за блажь –
душа моя пророчеств пожелала.
Для Цыбулевского поэзия – не ветер из будущего, пробивающий коросту настоящего, как полагал, например, Хлебников, а наоборот – некий атлантический порыв, пропитанный влагой прошедшего. Ушедшее явлено в набухающей памяти и проливается на современность, копошащуюся внизу, – то водяным обвалом грозы, то занудным решетом мороси. Глина, размягченная ливнем и размешенная подошвами, – вот наиболее точный образ представления Цыбулевского о поэтическом субстрате, о почве его стихов.
Его метод доподлинного запечатления подразумевает постоянную современность, автор и его материал ни на шаг не отстают друг от друга – они одновременны, и они сегодняшние:
Рисую вечные картины.
Арба тихонько проплыла:
повез старик свои кувшины,
огромные, как купола…
Отсюда возникает доминанта настоящего времени и отчетливая антисюжетность в вещах Цыбулевского[78]. При этом компоненты, периоды его вещей все же образуют временную последовательность, но это не мельканье сюжетных сцен, а скорее смена операторских планов. Запечатлевая, поэт прежде всего обязан проявить композиционное чутье – чувство избирательности, искусство фокусировки, вкус кадрировщика. Абсолютное, круговое, диорамное запечатление невозможно и не нужно[79]:
Зачем писать о нем, к чему?
Смешно в той области старанье.
По разуменью моему –
поэзия – вся – ускользанье.
Поэтому, хотя многие строки и абзацы Цыбулевского звучат бессвязно, как глоссолалии фактов и событий, все же нельзя сказать, что Цыбулевский бесструктурен. Просто структура его вещей особая: хаос как закон композиции – эта мысль Е. В. Завадской о буддистских росписях Аджанты уместна и справедлива здесь.
В то же время нельзя сказать, что фотографический метод тождественен фактографическому: ведь, как было замечено, «искусство отстоит от факта на величину души автора» (М. Анчаров), и Цыбулевский наводит мост между искусством и фактом несколько в ином створе, полагаясь не столько на свою душу, сколько на душу запечатлеваемого (и, следовательно, на свою собственную, когда заводит речь о себе).
Плюс беглое мастерство запечатления – словно надежные перила мостка…
Но запечатление безнадежно, все уходит – но лишь для того, чтобы вернуться:
Воспоминания – укоры, уколы. Минувшее действительно миновало, кануло – и где-то пребывая, в каких-то темных кладовых – становится прошедшим, которое нам еще предстоит. Что это – прошедшее? Кто вызывает его? И оно стремительно всплывает из глубины, как поплавок, на самую малость, на постороннесть себе, на листвы цветные витражи («Ложки»).
Воспоминания – это тот же метод запечатления, но распространенный на прошлое; память выполняет чисто транспортные функции. Прошлое связано с настоящим не генетически (как исток с устьем) и не археологически (тайна со знаком вопроса, дешифровальное гаданье), а именно транспортно – посредством памяти и реминисценций.
Интересно, что в прошлом времени, в некоем припоминательном блаженстве, – метод запечатления расслабляется и допускает сюжетность, даже потворствует ей. Это и понятно, ведь вспоминаются, как правило, не осколки, не обрывки, а целостные динамичные жизненные куски и фрагменты (например, воспоминания о первой любви в прозе «Чертово колесо», об отце и Тбилиси в «Ложках», в «Хлебе немного вчерашнем» и в «Шарк-шарк» и многие другие). Ведь в текущем настоящем никакой сюжет невозможен, для его возникновения необходимы бывшее и прошлое.
А настоящее – это так, «лепет голубиный».
Но запечатление, почти безнадежное в настоящем, тем более безнадежно и в прошлом. При воспоминании не только доподлинность оказывается под угрозой, но и сама подлинность:
…И ниточки зеленые подводного моха колеблет теченье. И это можно забыть?! И это забывалось?! Начисто. Не попало на бумагу – пропало. Уйдет, ушло, как сиюминутное тогда ощущение теплоты в затылок льющегося солнца («Гелати»).
Или:
Все уходит – этого не будет уже – все уплывает, выскальзывает из рук, и эта минута лишь кажется такой, что ее забыть невозможно, – ее не будет, и не только ее, а целого часа не будет, и целого дня не будет, дни только и делают, что теряют собственно дни. И что остается? Некое воспоминание о чем-то, о ком-то, скажем, о предмете, оторванное от того, что было, а было это состоянием плюс предмет – было предмет-состояние слитно, а не врозь, как врозь оно в этом суррогате – воспоминании, которое по-настоящему не имеет ни предмета, ни состояния. В усилии беспамятства больше предмета-состояния, чем в воспоминании («Хлеб немного вчерашний»).
Или:
…Это было в этом году – смешно. Нелепо – само собой разумеющееся. Я скажу через некоторое время, что видел в этом году этого человека («Хлеб немного вчерашний»).
В одно и то же время Цыбулевский воскрешает воспоминания из забытья и отвергает их как заведомую ложь, даже посмеивается над ними. Воспоминания насущны – как же без прошлого? Но они же и бессмысленны, ибо бессильны перед эрозией вечности, перед искажающим даром памяти.
Никакие сомнения не могут приостановить сам этот поток – поток воспоминаний, игнорирующих любую иронию и свою «неправомочность»: редкая страница обходится без них. Ведь для поэта его прошлое – не просто кумулятивная кривая, колода событий, но собственно жизнь, подчас суровая и несправедливая. Не прошедшая, а прожитая: («Прошлое – кипение»).
Ну разве можно забыть арест? –
…Мир довоенный, мир покойный.
Отец и мать… Но погоди,
зачем тут вынырнул конвойный
и Вологдою окатил?
Так головой своей повинной
вступаю под зеленый свод,
предвосхищая хоровод,
как в фильме «Восемь с половиной».
Никакая аберрация чувств и никакая работа над стихом не могли бы и не смогли загладить остроту этого впечатления, не раз и не два проступающего в книге:
Досмотр прост:
ни выдоха, ни вдоха,
а кажется, что губы не мертвы.
Еще немного северного моха,
пожалуйста, еще чуть-чуть листвы!
У неба, неба снившаяся синь.
Носилки не украшенные узки.
…Да, день и ночь тому назад латынь
еще могла торжествовать по-русски.
Или – впечатлительный глас ребенка! О, тифлисское детство! Как забыть тебя?! Как смириться с метаморфозами в сущности и облике любимого города? «Куда же ты, куда же ты, пролетка?»:
Конечно, нет духана[80] углового,
как самого угла – вокруг все ново,
шарманщик мертв. А все же тень Майдана
в чужой асфальт впечаталася глухо…
Нет ничего от прежнего духана.
Как просто все. Вот юркая старуха –
ей спешно перейти дорогу надо:
купить в жару бутылку лимонада.
Полощутся в стеклянном барабане
обмылки неба бледно-голубые.
Близка основа жизни к серной бане,
явленья безыскусственны и четки.
Без выбора перебирай любые,
как бедные пластмассовые четки.
Пластмасса – вот метина дешевеющего времени. Она появляется – как только возникает нужда друг другу противопоставить ушедшее прошлое и идущее настоящее. Антипод пластмассы и секундант настоящего – керосин[81].
Вот они у барьера:
На Гончарной или на Кувшинной
Смотрит оком мутного стекла
комната над лавкой керосинной,
а напротив винная была.
Как на ум здесь не приходит повесть,
пусть себе уходит в полусон.
Вот те на! Гляди, какая новость:
пронесли пластмассовый бидон.
Вот, кстати, прозаический подстрочник этого стиха:
Почему он не подождал трамвая, а пошел по мосту в такой дождь? Хотел увидеть, как вода падает в воду – дождь в Куру? По мосту прошли разносчик керосина (откуда – куда!) – привидения – с двумя бидонами, профессиональными, настоящими – с неразборчиво выведенной ценой, за ним старуха с рвущимся из рук зонтиком и злобной гримасой самурая… Эти проулки обманчиво тихие на самом деле сравнимы с гигантскою аэродинамической трубою, с таким ревом сыпались по ним поколения друг за другом. И очутился на улице, бывшей Кувшинной или Гончарной. С бьющимся сердцем стоял, смотрел, не отрываясь, на комнату над лавкой керосинной. Он на нее, она на него – подслеповатым окном. Ступеньки вниз. Серьезные основания игры слов. Вход – зевок – зев – Зевс. Бездна. Электрическая лампа в глубине мерцает, как звезда. Как странны эти новые бидоны («Прогулка»).
Приведем с ходу и еще один стих, вышедший из этого же подстрочника:
ЧУГУРЕТИ[82]
Какая тишь! А между тем гурьбой
тут поколенья сыпались, как гунны,
аэродинамической трубой –
в ничто, в какой-то рынок бестархунный[83].
А тявкают потомки тех же псов,
недолговечней детского румянца.
И нет у времени верней часов
геологических – простого сланца.
Но от воспоминаний исторических, даже геологических, вернемся к воспоминаниям детства, и тотчас же снова выплывают бидон и керосин:
…Уединенье в сто охватов
и треск трескучих хворостин.
Откуда запах горьковатый?
Так мог бы пахнуть керосин.
Ужель Команда Огневая,
Брэдбериевщины фантом?!
Нет, это маме наливает
Наш керосинщик в Наш бидон.
Как он забрел в эпоху газа,
усовершенствованных плит?..
Тоска по преходящему, по уже отошедшему – характернейшая черта Цыбулевского. Не только в тбилисских пенатах, но и в командировочной Москве – ему милей «минувших дней очарованье»:
…В буфет модерный, как салоны «ТУ»,
увязла одинокая свобода
и не вписалась в обстановку ту.
Извозчика б тринадцатого года,
Казанского вокзала пестроту!
Тоску вызывает не только то, что лелеемые его памятью вещи и жизненные атрибуты уходят, но и то, что они воистину забываются, воочию становятся ненужными. Он как бы разрабатывает тютчевскую минорную тему – «…Но для души еще страшнее / Смотреть, как выпирают в ней все лучшие воспоминанья».
В этой связи интересно сравнить одно из стихотворений А. Цыбулевского с близким ему по настроению стихотворением А. Тарковского «Вещи»:
При полной идентичности изначального импульса («Все меньше остается тех вещей…») отчетливо видна разница в подходе к теме и в решении стиха. Пятнадцати строкам, отведенным Тарковским под перечисление забытых веком вещей, Цыбулевский противопоставляет всего три строчки, в которых схвачены родовые черты его собственного перечислительного ряда: «с печатью рока, шепотком причуды…». Затем у обоих идет двух-трехстрочный пласт констатации небытия всего названного и опущенного, после чего мысли поэтов резко расходятся.
Верный своему пассеизму, Цыбулевский боится и чурается будущего – оно ему неизвестно, оно неподвластно доподлинности! Как бы у своей финишной черты[84], часто и неровно дыша, он пребывает в нерешительности, в растерянности, не зная, кому передать, кто подхватит его эстафетную палочку: «Куда девать, кому отдать мне гребень – ах этот гребень, гребень роговой!» Мысль Тарковского, тоскующего, наоборот, только по грядущему, набирает высоту, пока не достигнет искомой сферы, где она окончательно раскрепощается: «Я посягаю на игрушки внука, хлеб правнука, праправнукову славу»!..
Вообще у Цыбулевского довольно настороженное отношение к грядущему (быть может, потому, что оно смертоносно?): что́-то там – потом! после!!! – будет?
Но я не вижу, чье лицо
к зачитанному мной склонится тому…
Мой кабинет, как мамино кольцо,
достанется кому-нибудь другому.
К тому же будущее вовсе не гарантирует преемственности, то есть покушается на смысл любезного Цыбулевскому настоящего. И поэтому не случайно, что будущее время как грамматический феномен чрезвычайно редко встречается на страницах книжки (и то, как правило, не в виде обособленной плоскости, в которой происходят – будут происходить – те или иные события, а в замесе с другими временами). Единственное, что Цыбулевский, вслед за Баратынским, разрешает себе в грядущем, – это лучик надежды:
…За ставней свет карающим мечом.
Окинь, покинь, как при аресте, вещи.
Какой ни есть – в них все же след мой вещий.
Вернусь и я с каким-нибудь лучом.
Цыбулевский крепко связан с реалиями настоящего, поэтому вероятности будущего для него – вотчина фантастики. И когда в прозе «Шарк-шарк» ему потребуется ирреальное, фантастическое начало, он обратится за ним в будущее. «Сюжет» великолепной фантасмагории, разыгранной Цыбулевским с блеском, достойным булгаковского пера, таков: некий человек в халате («бородка клинышком – никаких особых примет», а позднее выяснится, что «при всей своей реальности, он, как бы это сказать, – в основном – проецируется»), представитель дислоцированной в «так называемом будущем» конторы по железнодорожным путешествиям, заключил с автором устное трудовое соглашение. Получив пост заведующего костюмерной или, на выбор, уполномоченного в секции усложнения путешествий – «всегда ведь найдутся охотники проехать ночью третьим классом по тому или иному отрезку Среднеазиатской железной дороги», – автор отправляется в общем вагоне из Душанбе в Красноводск. Его работодатель пояснил, что нужно его фирме:
…Не пренебрегайте мелочами, такими, например, как будет выглядеть из окна сценка: мальчик помогает старику взгромоздиться на осла. Впрочем, нас интересует скорее поэтическое воспроизведение увиденного – не столько, так сказать, подлинность – сколько доподлинность, что ли, – то есть то, что придумать нельзя, – ну вы в этом прекрасно сами ориентируетесь – вы поэт, вам и карты в руки. // – Какой я поэт! // – Не скажите, могу открыть вам по секрету, что после неизбежной, как вы понимаете, смерти – все мы смертны – стихи ваши получили признание и еще долго имели определенное хождение у любителей, не помню уже точно, что в них такое находили: кажется, крутизну и соответствие высоты голоса с чем-то – что редко. Да и проза ваша нравилась – этакие руины, развалины несостоявшихся стихотворений.
За этим ироническим комизмом кроется грустная истина: вложив свои заветные мысли в ирреальные, проецируемые уста, Цыбулевский высказался по поводу извечной горечи социального положения поэта.
А уж заодно сделал среднесрочный, но постепенно сбывающийся прогноз и о собственной поэтической судьбе…
78
Ведь в одном настоящем сюжет невозможен, для его построения необходимо «как минимум» прошлое. Настоящее, доподлинное – и есть «лепет голубиный» (см. эпиграф).
79
Поэзия (особенно лирическая), в отличие от прозы, обречена на монологичность (в терминологии М. И. Бахтина). В редчайших случаях она проявляет, так сказать, диалогичность: так, весь «Евгений Онегин» пронизан как бы двойным светом авторского мироотношения – через «призму» («магический кристалл») Онегина и через «призму» Татьяны (но и недаром Пушкин назвал эту вещь романом в стихах).
80
Небольшой трактир.
81
Тут, тоскуя о прошлом, Цыбулевский проявляет себя истым современником настоящего, ему и дела нет, что когда-то и для кого-то керосин был тем же самым, что для него пластмасса. Интересно, что у Б. Ахмадулиной пластмасса трактуется как бездушный символ современности («ассортимент пластмасс» в ее «антикварном магазине»).
82
Чугурети (от турецкого «чугур» – овраг, склон горы) – квартал Тбилиси. С 1820-х гг. был районом городских горшечников, что сохранилось в топонимике некоторых улиц.
83
Тархун (эстрагон) – популярнейшая специя, трава из семейства полынных (рынок бестархунный – пустой, никакой).
84
Всего в сорок с чем-то лет – ощущение уже прожитой жизни все время сопровождало Цыбулевского!