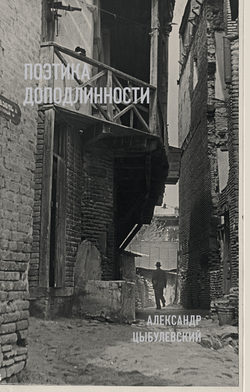Читать книгу Александр Цыбулевский. Поэтика доподлинности - Павел Нерлер - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Этюды о Владельце Шарманки
Зоркость, природа, любовь…
ОглавлениеХоть краем глаза, ну а зорче вдвое…
А. Цыбулевский
А может быть, писать про облака
есть способ выйти за свои пределы.
А. Цыбулевский
Но линии любви нет на моей ладони…
А. Цыбулевский
Поэтика доподлинности подразумевает в качестве своего естественного органа и необходимейшего аргумента – авторскую зоркость, тот самый взгляд на пресловутую «косу узбечки, лежащую на запыленных ботинках».
Поэтому, поражаясь редкой наблюдательности Цыбулевского, лингвистически встряхиваясь от меткости его слов, мы все же не должны этому удивляться:
И солнце, что похоже на луну, / скользит тончайшим диском по туману… (с. 21)
Или:
…Шарманки равномерное круженье, / сквозная тень колеблемой листвы (с. 24).
Или:
Вдруг – ультрамарин – маленькая бабочка мелькнула над зеленой травой, как взгляд («В гостях», с. 116).
Или:
Автобус закачался наподобие катера, причаливая к совершенно незнакомому городу на окраине города («Плывет, куда ж нам плыть?», с. 123).
Или:
А утром свет проникает в узкую щель под дверью – точно просунут уголок письма – я достаю его и, не читая, знаю, о чем там («Плывет, куда ж нам плыть?», с. 131).
Или:
Вблизи Казбека так же далеко от него, как в Средней Азии от пустыни. В горах нет гор, в пустыне нет пустыни… («Казбек», с. 159).
Большинство непосредственных впечатлений Цыбулевского – зрительные, и, следовательно, основное орудие его зоркости – глаз:
Хоть краем глаза, ну а зорче вдвое,
Все мимоходом, мельком, сквозь толпу.
Счел божьим даром зренье боковое.
…Он говорил про третий глаз во лбу.
(«Итог неутешительный», с. 104).
Однако и звуки и запахи также провоцируют его зоркость и внимательность[96]:
Дом. Сад. Цветенье. Низкорослые деревья. Деловое жужжание пчел. А горький запах откуда? Оттуда – от ореховых листьев – настой в воздухе» («В гостях», с. 114).
Или:
Все ушло, как внезапно уходит запах сена. Одну минуту пахнет стог («Чертово колесо», с. 150).
Но зоркость сама по себе бессмысленна без искусства точного называния, без разыгрывания подмеченного: у Цыбулевского оба дара неразлучны. Он иногда находит слова для явлений, априори заведомо неопределенных (см. выделенное):
Мне понравилось, как он ел – этакое обжорство без гурманства – поедал с аппетитом котлеты какие-то, не зарясь на осетрину («Казбек», с. 153).
Хотя диапазон зоркости поэтического глаза Цыбулевского весьма широк, все-таки более пристально поэт приглядывается к предметам и явлениям, до которых – фигурально – рукой подать. В этом смысле он вновь являет противоположность эпическим художникам (так, Мандельштам писал о явной дальнозоркости Данте)[97].
В то же время нельзя сказать, что Цыбулевский просто-напросто близорук: мелкие вещи он видит не деталями или подробностями вещей покрупнее (сблизи не схватываемых и не уяснимых), а как самодостаточный символ, тождественный целому знак его, как слово, приравненное к самому предмету.
Он и сам пишет об этом – просительно – в стихотворении «В саду» (с. 72–73):
Как всякий год – открыт сезон, в котором
сугубо мимолетен каждый штрих.
Цыганки канут, не задев подолом
стиха, но что же, собственно, есть стих?
Цыганки тут весь день между столами:
вот сдуло их, вот снова намело…
О, если бы переписать стихами,
что прозой складывалось набело!
…Неисчислимы лирики потери,
итог приобретений невелик.
Но как, скажите, распахнуть мне двери,
чтобы вошел тот сухонький старик?
…Ах день какой! Подробности за далью
исчезнут, как за каменной стеной.
Что ж, лирика, пренебреги деталью
и задуши меня своей волной.
Но орудие поэтической зоркости у Цыбулевского – глаз – чувствует себя одинаково хорошо не во всякой среде. Лучше всего – в городской (тбилисской), в комнатной – одним словом, в урбанизированной среде. Несколько натянутее контакты со средой естественно-природной. Бросается в глаза, например, то, что столь традиционной для русской поэзии собственно природной лирики у Цыбулевского нет. Природа, разумеется, фигурирует в его стихах (в Грузии и Дагестане он пишет о горах, в Средней Азии – о пустыне, воспоминания о детстве извлекают наружу дачные мотивы и т. п.), но всегда как-то безвольно, непременно не самодостаточно, в виде параллельного (или контрастирующего) пласта, в роли вспомогательного, подчиненного ассоциативного ряда (с. 13):
Опавших листьев ворох прелый
передохнув, перемахнув…
вдруг женский локоть загорелый
явила бабочка, порхнув.
Но расцепившееся слово
иным движением полно:
оно несчастием здорово
и только радостью больно.
Как и многое другое, Цыбулевский знал это за собой и резонно оправдывался тем, что писать о природе – значит заведомо выходить за свои рамки, за контуры своей питательной среды:
О ЧЕМ-ТО ДРУГОМ
Поют листвы цветные витражи,
и глохнет пень, оплывший как огарок.
В лесу такие чертовы ангары,
такие вертолеты, виражи.
И листик – жук, точнее, жук – листок,
несет, несет его воздушный ток.
А облако, как из старинной пушки, –
пиши себе – пасется на опушке.
Но разве не виновно ремесло,
что облака нас облагают данью,
и вдруг потянет виршеплетством, дрянью, –
и не заметил, как позанесло.
Ну что же, облако, пока, пока.
Шумит, шумит кустарник поределый.
А может быть, писать про облака
есть способ выйти за свои пределы.
Прямая речь. Речь не обиняком
про облако. О чем-то о другом (с. 10–11).
Биография поэта, видимо, была такова, что природа не явилась ее жизненным, определяющим фактором или фоном, не говоря уж о средстве или цели бытия. Потому натуралистические познания Цыбулевского скудны, поверхностны, преходящи, и даже исключительная поэтическая зоркость Цыбулевского здесь не всесильна. Отсюда ощущение того, что природная тема для него – заминированное поле, очаг потенциальных ошибок, осечек и всевозможных недоразумений, область неуверенности в себе, даже беспомощности как поэта («и не заметил, как позанесло»).
Отрываться от родной – неприродной – почвы рискованно[98], а природа для Цыбулевского – чужая:
И в разгар упоения природой – давнее к ней равнодушие – бессмысленное, не говорящее сердцу зрелище ее, вдруг делающееся привычным… («Ложки», с. 193).
Потому-то и получается так, что, говоря о природе, поэт говорит как бы не о ней, не видит возможности обойтись без неприродных атрибутов:
А я бы продавал в консервированных банках дым домашних очагов – мегрельских, имеретинских, кахетинских! // Да дым… («Но нужно тут так выбрать время, чтобы была суббота, воскресенье и понедельник», с. 113).
Или:
Голубой купол не может быть пасмурным в отличие от неба («Шарк-шарк», с. 270).
Или:
Почему весна с алюминиевой расческой – для другой у нее слишком густые волосы. // Скоро распустятся деревья – вот фраза, в которой уже заключены все грядущие несчастья («Плывет, куда ж нам плыть?», с. 132).
Или – то же самое, но в стихе (с. 14):
И скрипнул лес, как скрипнула кровать.
Кровать пружинная лесного бога.
Правее в гору – древняя дорога,
дымок отшельничества. Благодать.
Осколки сланца черны, как пластинка,
то записи умолкших голосов.
А может быть, поющая тростинка
и шлепанье домашнее подков.
Я впрямь, и впрямь магический кристалл!
Рожденье мифа на конце дороги:
там человек какой-то многоногий –
замешкался и этим дубом стал.
Но нет, не то: внезапно сквозь завесу
я вспомнил что-то. Замыкаю рот.
И лист тетрадный возвращаю лесу,
туда, туда в немой круговорот.
Да, дым… Консервированный дым домашних очагов. Да, весна… Густоволосая весна с алюминиевой расческой. Да, скрипнул лес… Как скрипнула кровать и т. п. Сам по себе, внутри себя – лес Цыбулевскому чужд, чужд и нем, и поэтому так трогательно оправдан венчающий предыдущее стихотворение жест поэта: «…И лист тетрадный возвращаю лесу, туда, туда в немой круговорот».
Лучшая природа для Цыбулевского – очеловеченная, обжитая: если лес, то хотя бы с дымком, но любому лесу он предпочитает городской сад или парк – и чтобы обязательно были скамейки!..
В целом поэзия Цыбулевского относится к своим импульсам и субстрату весьма деликатно и мягко, причем эта деликатность возводится в степень в тех случаях, когда импульс – уже сам по себе – наделен внутренней интимностью, ранимостью. Тема любви – пробный камень поэта, и, как и тема природы, не доминирует в книге «Владелец Шарманки»[99]. Быть может, это объясняется нежеланием автора публиковать стихи чрезмерно личные[100]. В таких случаях поэт как бы разделяет права авторства с женщиной, его вдохновившей, и тем самым лишается монополии на публикацию. До читателя доходят – и в этом проявляется человеческий такт поэта – стихи относительно обобщенные, объективированные (с. 32):
А нелюбовь моя вещает –
ей вдруг беда любви ясна.
Бессонницей так освещают
таинственную сущность сна.
Еще свободен и с любою
зло отличаю от добра.
Еще я не задет любовью,
но белый локоть у ребра…
Только что приведенный стих словно осекся на заповедном пороге, почувствовав угрозу конкретной индивидуализации («но белый локоть у ребра…»). Все индивидуализирующие атрибуты, любые посвящения должны быть – в результате кропотливой работы – или вовсе изъяты, или запрятаны вглубь (невидимую с поверхности), или надежно зашифрованы (с., 32):
Вот так предвосхищать возможность
и не уйти в тот свет и тьму.
Как легким взмахом острых ножниц,
перерезающих тесьму.
И, распадаясь на две части,
уже не связана она.
И, может, в этом-то и счастье
так пить, и никогда до дна.
Так никогда до дна, как горе,
как звездопад, как водоем,
так в небо ствол и в землю корни,
чтоб никогда не быть вдвоем.
И сохранять смешную верность
повсюду, где ни ступим мы.
Пока не втянемся в поверхность
без высоты и глубины.
Когда же все улики стерты, имена отставлены и детали завуалированы – тогда можно, не таясь, броситься в жизневорот мыслей и эмоций, как, например, в этом стихе (с. 106):
Сидеть бы в кафе с большеротой
той самой, которой б – коня!
А жизненный каменный храм с позолотой
уже не прельщает меня.
…Пусть несовместимость другая,
но только уйти бы от той,
где тяга когда-то тугая
на ход перешла холостой.
Любовь как поэтическая тема у Цыбулевского всегда самонедостаточна и требует какого-нибудь параллельного ряда – чтобы быть словно за жалюзи, видимой и невидимой одновременно (с. 97):
Кораблик в море и в кафе серьга:
сближалось все, что врозь и не похоже,
но не соединялись берега –
два одного по существу того же.
То лето выдыхает зимний пар,
а тут зима прельстительнее лета.
Постреливает гравием бульвар,
и нищенствует пес у парапета.
И кажется: еще я не встречал
тебя тогда: так эти волны брызжут:
впервые слышу, как скрипит причал,
и самый блеск волны впервые вижу.
Так вот оно, великое нигде,
во всем его разгуле и просторе.
Все время кто-то ходит по воде.
Ну что еще могу сказать о море?
Эти стихи – про любовь к женщине, а кажется, что про любовь к морю. И вообще у Цыбулевского – море и любовь – сближенные ряды. Вот еще пример их соседства и взаимопомощи (с. 108):
Вот она возникает из пены,
море красит ее во сто крат.
Как чудовищно одновременны
твой рассвет, твой расцвет, мой закат!
Эта пластика – суть завершенье
поколения нимф и богинь –
не мое ли тут мудрствует зренье?
Погоди же! Нет, все-таки сгинь!
…Метафизика пены. Кипенье.
И две крайности объединя –
Ты, как море, – мое представленье,
независимое от меня.
А закончу я эту главку прекрасным, на мой взгляд, стихом о любви (с. 61), в котором чудесно замешены возвышенное и земное, нежность первого поцелуя и тяжесть совместного проживания – извечные мандельштамовские «сестры – тяжесть и нежность» (с. 61):
Когда же это было? Снег и город О́ни.
Вокруг стола раввин и девять дочерей.
Снежинки за окном все гуще, все быстрей,
но линии любви нет на моей ладони.
Но линии любви нет на моей ладони.
Теленок под столом. Гудит в печи огонь.
Сиянье, теснота. Благоуханье вони.
И гладит, гладит шерсть с ладонями ладонь.
96
Ту же зоркость, остроту оценивающего взгляда мы находим и в литературоведческой работе А. Цыбулевского (например, РППВП, 28): «…можно представить, что в процессе перевода купюры накапливаются в памяти поэта и не дают покоя, и вот – выход: такое, чего нет в оригинале, но что по силе подлинности является слепком с оригинала, представительствует и замещает подлинник».
97
«У Данта была зрительная аккомодация хищных птиц, не приспособленная к ориентации на малом радиусе: слишком большой охотничий участок» («Разговор о Данте», с. 34).
98
Ср. с мыслью самого Цыбулевского (с. 239): «…нужно уйти, как почувствуешь диссонанс – несоответствие себя со всем, а пока слит, не выделен – пиши».
99
Она заметна главным образом в стихах из первой книги («Что сторожат ночные сторожа») и из третьей, неоконченной, а также – в виде легких отрывочных воспоминаний – в ряде прозаических вещей («Чертово колесо», «Ложки»).
100
Любопытно и характерно! – что из сотни с лишним стихов лишь одно имеет посвящение – М.Ц. («Я руки простирал, пустые горсти…») (с. 34–35) и еще одно прозрачное, по адресу, озаглавлено – «Без пояснения» (с. 36–37).