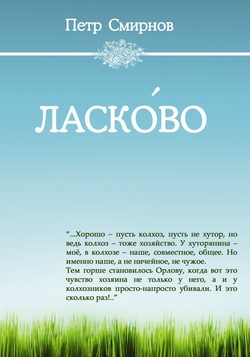Читать книгу Ласко́во - Петр Смирнов - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ласко́во
“Сигнал”
ОглавлениеОт Ласко́ва до Шумай два километра, а до Махновки – все четыре. В первый класс Шумайской школы меня тятяша отвёл уже после Покрова, а потом я начинал ходить в школу уже с 1 сентября, по крестьянским понятиям – “нескладно рано”. Когда-то в школу ходили только зимой, потому и говорили про кого-нибудь: ходил в школу столько-то зим.
Мы ходили в школу из Ласко́ва мимо хуторов Вани Моха и Даруши. Они нас знали хорошо и в ответ на наше “здравствуйте” и “бог в помощь” отвечали:
– Ай да ребятки! Здравствуйте. Спасибо.
Не поздороваться было нельзя: скажут родителям и нам влетит.
В самих Шумаях первым по пути в школу был хутор Вани Тимошина. Он и его жена Алёна тоже отвечали на приветствие. Им было не лень остановить нас, прекратить на время работу и каждого расспросить, поинтересоваться отметками. Обязательно узнавали, что сейчас работают в нашей деревне.
Все шумайские отлично знали ласковских, равно как и наши – их. Со временем я тоже стал знать в Шумаях не только каждого старого и малого, но и кто кому какая родня.
В первый класс ходили в Шумаи я и Ваня Тимохин. На следующий год нас из Ласко́ва ходило уже четверо – брат Митя и Коля Бобкин тоже пошли в школу. Ходили пешком. В редких случаях – в плохую погоду – кто-нибудь из родителей отвозил или встречал нас на лошади. Иной раз лихо доставалось от мороза и встречного ветра. У троих были валенки, хоть и не новые и не всегда по ноге, а Ваня Тимохин всю зиму ходил в яловых сапогах из кожи домашней выработки (у Тимохи не было овец).
На третий год Ваня и Коля пошли в Махновскую школу. Они убедили родителей в том, что в Шумаях, мол, плохо учат, потому и отметки у них плохие. Это было неправдой. Учителя были хорошие, я их всех помню по сей день и вспоминаю о них с благодарностью.
Оставшись вдвоем в Шумайской школе, мы с Митей в плохую погоду домой не ходили, а ночевали в “классе”, располагавшемся в избе Гравы, спали на русской печке. Тогда я и стал очевидцем всех собраний по организации в Шумаях колхоза “Сигнал”. Он создан у меня на глазах, я всё о нем знал и в последующие три года, когда с 5-го по 7-й класс учился в Сорокине, и еще четыре года, когда уже сам работал учителем в Шумаях.
Колхоз объединял крестьян одной деревни Шумаи и существовал с зимы 1931-32 годов до прихода немцев летом 1941 года. В 1950 году при укрупнении колхозов стал бригадой, а теперь Шумаи – лишь малая часть бригады огромного по территории, но совершенно безлюдного, дышащего на ладан колхоза “Комсомол”, объединяющего что-то около 35 деревень. “Комсомол” обречён, ничто уже не поможет ему возродиться, ибо некому там работать…
Это – видно всем. Я же хочу рассказать о том, что и как было в наших краях полвека назад, о чём помнят уже немногие, а книг о том не издано. Только узнав истину прошлого, можно понять трагедию настоящего…
Зимой 1931-32 года я ходил в четвертый класс, а Митя в третий. В классе, где мы оставались ночевать, проходило собрание.
Класс тускло освещался единственной керосиновой лампой. Учительский стол, за которым восседали уполномоченные, стоял у стены справа у двери. За партами, как школьники, сидели шумайские домохозяева, мужики и вдовы. Нам с печки их было хорошо видно, а чтобы видеть уполномоченных, приходилось выглядывать из-за печной трубы.
Уполномоченным из района в тот день был Бальцер – начальник уголовного розыска. Ни председателя, ни секретаря собрания не было, никто не писал протокол. Бальцер, в шинели и буденовке, с наганом на ремне через плечо, не переставая курить, произнес грубо, отрывисто:
– Виноградов Александр!
Сидевший на задней парте Шурка поспешно встал, ответил:
– Здесь.
Бальцер, не поднимая глаз от стола, спросил:
– За тобой – кто?
Шурка замялся. Бальцер смотрел в бумагу:
– А сам ты – как?
– Да я что ж, я иду.
Шурка считался бедняком, на него уже на первом собрании нажали, и он дал согласие записаться в колхоз. Но после Шурки ни на том, первом, ни на последующих собраниях “писатца” не захотел никто. После Сергея раскулачили и выслали семью Егора, еще позднее – семью Александры, но Шумаи упирались, в колхоз не шли. Может, поэтому и послали сюда Бальцера, самого грозного человека в районе. Его фамилия, должность, не говоря уже о нагане – всё гипнотически действовало на крестьян.
Не обращая внимания на стоявшего Шурку, Бальцер, по-прежнему глядя в бумагу, спрашивал:
– Дальше – кто?
Молчание. Шурка сел. Бальцер перебирал бумаги, выбирал нужную фамилию:
– Тимофеев Иван.
Тимошонок не пошевелился. Будто не слышал. Кто-то толкнул его в бок:
– Ва-ань, тебя.
Бальцер поднял глаза:
– Тимофеев – кто?
– Я Тимофеев. А што? – ответил сидя.
– В колхоз идёшь?
– Не-е. Погожу.
Тимошонок жил на краю деревни. Сразу за его домом была построена новая школа, но в ней ещё не учили. Жена Алёна уже была оформлена уборщицей в этой школе, зарплату в сельсовете получала, поэтому Бальцер был уверен, что Тимошонок струсит. Но тот трусом не был.
Бальцер ударил кулаком по столу:
– Вста-а-ать!! – и взялся за кобуру.
Словно внезапный удар в лицо отбросил нас с Митей за печную трубу. Сердце бешено колотилось. Подумалось, что вот-вот начальник будет стрелять, а нам ни из класса не выскочить, ни на печке не спастись.
Сколько-то секунд длилось гробовое молчание. Выстрела не было. Я осторожно выглянул из-за трубы. Ваня Тимошин, большой, чуть сутулый, едва касаясь вытянутыми пальцами обеих рук парты, стоял в неудобной позе.
Первым подал голос Петя Гришин. Он тихо, но четко проговорил:
– Зачем же пугать, товарищ … уполномоченный. Ить он не против, а только сказал, что погожу.
– Кто такой? – глухо спросил Бальцер.
– Я-то? – переспросил Петя.
– Да. Ты-то.
– Да я-то Григорьев … Пётра.
Бальцер глянул в список:
– В колхоз идёшь?
– А за што ж? В своей деревне я хоть в колхоз, хоть в коммуну. Я от соседей не отстану.
– Значит, записывать?
– Пиши-и…
Бальцер на отдельном листе, где уже был Виноградов, записал вторым Григорьева Петра.
Что-то вроде просветления появилось на хмуром лице Бальцера. Он уже более спокойно обратился к стоявшему Тимошонку:
– Тимофеев, тебя третьим – записать?
Тот, не меняя позы, покачал головой:
– Я погожу.
– Как долго: час, день, неделю?
– Не-е. Года два-три. Погляжу: если хорошо в колхозе – сам приду. Только, оду́ма, нико́во не бу́дя.
– Ты что – умнее всех?
– Я-то? Не-е, я-то дурак, вот и погожу.
– Ладно, садись пока.
Бальцер одного за другим поднимал мужиков, надеясь, видимо, что теперь дело пойдет. Но больше записываться не захотел никто. Вдова Стеня, уже старая баба, ответила, что долго, как Ваня Тимошин, глядеть не будет, а за своими мужиками пойдет хоть в огонь, хоть в воду, а хоть и в колхоз.
Собрание затянулось, в лампе кончался керосин. Колхоз и в этот раз создать не удалось, но собрание не прошло бесследно. Надо думать, что шумайские обстоятельно между собой всё обсудили, потому что уже на следующем собрании в колхоз пошли все.
А было так.
В Шумаи приехал Носко́. Двадцатипятитысячник из Ленинграда, донской казак Носко возглавил Сорокинский сельсовет, сменив Гранова. Тот стал избачом (т. е. заведующим избой-читальней).
Был конец апреля, и сходку на этот раз собрали на улице. На собрание пришли не только домохозяева, но всё взрослое население деревни. Расселись на принесённых из дому скамейках. Поставили и накрыли красной материей стол.
Уроки уже закончились, да разве домой уйдёшь! Ведь так интересно!
Председательствовал Носко, но за столом сидели также Шурка и Гришонок. Передние скамейки занимали бабы, на задних курили мужики, переговаривались между собой. Вани Тимошина на сходке не было – была Алёна.
Носко произнёс речь. Говорил о коллективизации, назвал деревни, в которых люди якобы добровольно вступили в колхоз, похвалил шумайских товарищей Виноградова и Григорьева, выразил пожелание, чтобы все как один объединились в коллективное хозяйство.
Мужики молчали. Бабы подняли шум:
– Не хотим в колхоз!
– Дайте на хуторах пожить!
– Только жизнь наладилась, теперь опять ломать!
– Мужики пусть пишутся, а мы не пойдём!
Шуркина жена Палашка кричала громче других. Гришонкова Таня тоже поддерживала общий бабий хор против объединения.
Хитрый Носко баб не перебивал. А те уже вовсю ругали мужиков:
– Им што: один – присядатель, другой – сцытавот (счетовод). А работать – бабы!
– С одной бабой не справиться, а тут – вся деревня!
– Не пойдём!
Когда бабы, наконец, угомонились, слово взял Гришонок:
– А теперь послушайте, что я скажу.
Люди притихли, знали – Петя Гришин пустое не скажет. Грамотный, хозяйственный мужик.
– Стало быть, такая жисть пришла – не так живёшь, как хошь. Ждать, пока меня, как Егора да Лександру, не хочу. А и вы только подумайте: общиплют, как курят. Всё ро́вно никуда не денешься. И не мы одни – везде так же. Так что пока нас не растрепали, давайте все дружно запишемся и будем жить вместе.
Носко уже понял, что на этот раз не зря приехал в Шумаи, поэтому не стал разыгрывать власть, не перебивал Гришонка, когда тот выступал не по “программе”.
– Не севонни, так завтра, – поддержал Гришонка Петр Николаев, по прозвищу Сват. – Раз такое дело, што ж поделаешь, лучше сразу.
– А ты, Дунь, што скажешь? – спросил вдруг Гришонок Дуню Домкину, сидевшую с раскрытым ртом на передней скамейке.
Та аж вздрогнула от неожиданности. Но живо очнулась:
– У-у, бес, спужал. Я не хочу в колхоз. Вон Яшку спрашивай.
Яшка сидел на задней скамейке. К нему обратился Носко:
– Так как же, товарищ Домкин?
Яшка не ответил. Вопрос пришлось повторить.
– Домкин Яков, я тебя спрашиваю.
– Яшк, говори, – толкнул его в бок сосед.
Многие в Шумаях, в том числе и Яшка, недавно начали жить на своих хуторах. При объединении им всем предстояло снова разбирать всю постройку, перевозить обратно в деревню, собирать. Опять ломка да еще какая!
Яшка встал, зачем-то снял шапку:
– Не знаю… как люди, так и мы, в общем…
– Значит, не против?
– Не знаю.
– А кто знает?
– Я не знаю, в общем…
Снова загалдели бабы. Из всего их гомона можно было понять, что бабы ни в какую не хотят в колхоз.
Носко говорил и говорил, разъяснял и пугал раскулачиванием, грозился найти скрытых врагов, которые-де тайно ведут антисоветскую пропаганду.
Пытался выступить Шурка, но Палашка не давала ему говорить. Носко рассердился и прогнал Палашку с собрания. Та, ругаясь, ушла. Носко дал слово Шурке:
– Говори, Виноградов. Только учти, что нам колхоз нужен, а не пустой разговор.
– А чего, мужики, тянуть, – сразу стал агитировать Шурка, – я вижу, что теперь к тому идёт…
– Палашку не уговорил, а нас уговариваешь, – усмехнулась Дуня Коза. Дуня была вдовой. Муж в прошлогоднюю Пасху поспорил по пьянке, что может разом съесть пятьдесят яиц. Съел только сорок – умер от заворота кишок.
– Ён Палашки боицца, – поддержала Козу Алёна.
– Волк собаки не боится – брюзги не любит, – важно продолжал Шурка. – Я иду в колхоз. Вижу, что Пётра Николаев, Иван Марков, Васильев Сергей тоже согласны. Ну и так далее. Так что давайте, мужики, в колхозе и пахать вместе и сев проведём.
Бабы снова (видно, такая им по уговору была отведена роль) попытались шуметь, но на этот раз им этого не позволили. Носко вызывал и под диктовку Гришонка записывал новых колхозников. Тут же на собрании решили дать колхозу название “Сигнал”. Бабы тут же уточнили: “колхоз “Сигнал” – силком вогнал”. Носко не обиделся. Председателем стал Шурка, счетоводом – Гришонок, бригадиром – Сват.
Вступила почти вся деревня. Один Ося отказался наотрез. Вскоре его раскулачили и выслали.
Так в Шумаях началась новая жизнь.
Шурка возглавлял колхоз недолго – не справился, сняли. Пробовали выбирать других – тоже не получилось. “Прижился” лишь Гришонок. Он работал председателем до самой войны, и после войны до укрупнения в 1950 году.
С годами люди привыкали жить “по-колхозному”, привыкали к беспорядку. Многие уезжали…