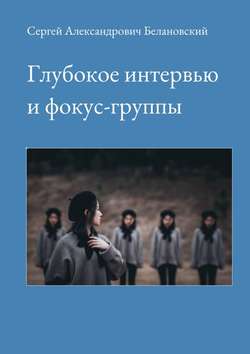Читать книгу Глубокое интервью и фокус-группы - Сергей Александрович Белановский - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1.
Качественная и количественная традиции в эмпирической социологии
Глава 1.1. Сущность качественного подхода
1.1.2. Взаимное дополнение и теоретический конфликт методов
ОглавлениеВзаимное дополнение количественных и качественных методов на первый взгляд кажется трюизмом. Однако исторически взаимодействие этих методов складывалось неоднозначно. Отголоски этих неоднозначных отношений в какой-то мере ощущаются и сегодня. Хотя названные группы методов могут успешно дополнять друг друга, в истории социологии вопрос о характере этого взаимодополнения часто становился ареной острой идейной борьбы.
Так, классическая работа У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке», основанная на материалах писем и личных дневников, после выхода в свет была подвергнута жесткой критике за ее «ненаучность», т.е. за отсутствие в ней количественных оценок. Хотя позднее эта работа была реабилитирована научным сообществом, конфликт между сторонниками качественных и количественных методов продолжался еще достаточно долго. Наверное, лишь сегодня можно говорить об угасании этого длившегося десятилетиями спора.
На протяжении длительного времени количественная и качественная традиции в социальных науках находились в состоянии «теоретического конфликта». Их сравнительная популярность и научная значимость не были постоянными, скорее они были подвержены колебаниям наподобие маятника. Непосредственной причиной этих колебаний часто выступали значимые научные успехи, достигнутые в рамках той или иной исследовательской традиции. Другая, сравнительно автономная, но очень значимая причина состояла в изменениях методологических представлений о природе научного знания. Воздействие этих причин накладывалось друг на друга, образуя различные комбинации, свойственные разным историческим эпохам.
В конце XIX и начале XX века эмпирическая социология в основном развивалась как качественная, а излюбленными методами исследований были анализ автобиографий, писем и дневников. Данная исследовательская традиция имела свои крупные успехи, включая достижения Чикагской школы по изучению причин преступности и уже упоминавшийся фундаментальный эмпирико-теоретический труд Томаса и Знанецкого.
Следующий период, условно датируемый 30 – 60-ми и отчасти 70-ми годами ХХ века, был периодом огромной популярности количественных методов. Причины перелома исследовательской традиции имели двойственную природу. С одной стороны, они были связаны с крупными успехами, достигнутыми в освоении и использовании метода массовых опросов в США. С другой стороны, в области философии знания произошли изменения мировоззренческого характера, связанные с возникновением и доминированием в эту историческую эпоху философии логического позитивизма.
Основные идеи этого направления были разработаны в начале 30-х годов членами Венского логического кружка, куда входили известные философы и математики Мориц Шлик, Отто Нерайт, Рудольф Карнап. В своих построениях они опирались на базовые построения «Логиико-философского трактата» Людвига Витгенштейна (1921). Необходимо отметить, что названные философы были глубокими и многогранными мыслителями, однако их взгляды зачастую вульгаризировались.
Одно из ключевых положений логического позитивизма состояло в так называемом «принципе верификационизма», согласно которому всякое научно осмысленное утверждение может быть сведено к совокупности так называемых «протокольных высказываний», фиксирующих результаты опыта и выступающих в качестве фундамента любого знания. Как следствие, верификационизм трактует процесс научного познания как процедуру эмпирической проверки фактов, лежащих в основе соответствующих утверждений.
Уже в конце 30-х годов концепция логического позитивизма претерпела кризис, поскольку было установлено, что реальный процесс научного познания не вписывается в ее рамки. К числу проблем, не решенных в рамках данной методологии, относится и проблема возникновения гипотез. Концентрируя внимание на процедурах верификации, логический позитивизм не дал удовлетворительного ответа на вопрос, как возникают содержательные гипотезы, требующие эмпирической проверки.
Хотя идеи логического позитивизма оказались уязвимыми для критики, в 30-е годы позитивистская система взглядов сделалась популярной в широких кругах научной интеллигенции. Идеи позитивизма оказали большое влияние на мировоззрение ученых в различных научных дисциплинах. Не избежала такого влияния и социология, в которой резко возрос интерес к проблемам эмпирической верификации, количественным аспектам эмпирических исследований и измерительным процедурам.
Преобладание позитивистских и «количественных» взглядов в социологии продолжалось до конца 60-х годов. В последующие годы мировоззренческое доминирование этой традиции стало подвергаться все более интенсивной критике. Источники этой критики вновь оказались двоякими: с одной стороны, эмпирическими, а с другой – мировоззренческими.
Эмпирическим источником критики позитивистской традиции явилась растущая неудовлетворенность низкой научной содержательностью многих количественных исследований. Иллюстрацией этой неудовлетворенности может служить, например, следующее высказывание:
Не становится ли социология мелочной и ничтожной наукой, делающей легкие вещи, потому что здесь возможны точность, и обходящей трудные, так как они неопределенны? Социологические журналы заполняются описательными, а порой и бессмысленными статьями о социологической структуре больницы, влиянии территориальной отдаленности на заключение браков, поведении музыкантов симфонического оркестра во время репетиции и т. п. Социология, лишенная больших идей, смахивает на глухого, бормочущего ответы на вопросы, которых никто не задавал.
Мировоззренческие причины изменения методологических взглядов на познавательные функции методов эмпирического исследования имели автономную природу и были связаны с возникновением новых гносеологических подходов к пониманию природы научного знания. Эпоха преобладания позитивистских взглядов закончилась. Еще в середине 80-х годов известный российский философ В.С.Швырев писал по этому поводу, что концепция научного знания, выдвинутая логическим позитивизмом, безусловно, принадлежит истории. Период ее наибольшего влияния приходится на 30 – 40-е годы, в 50-х годах начинается ее закат, а с начала 60-х годов стали набирать силу конкурирующие с ней течения, прежде всего последователей К. Поппера, существенно изменившие взгляды научного сообщества на проблему научной «истины».
Таким образом, количественные методы социологических опросов долгое время доминировали и на Западе, и в СССР. Затем в методических взглядах западных социологов стали происходить изменения. Происходили эти изменения и в СССР, но со значительным отставанием. Это привело к обеднению методического арсенала советских и российских исследований 80-х и 90-х годов и отставанию его от мировой практики.
Надо сказать, что многиероссийские социологи и экономисты той эпохи хорошо понимали эту проблему, но их голоса не были своевременно услышаны. Вот некоторые примеры высказываний авторитетных ученых80-х годов, актуальные и для сегодняшнего дня.
Современная социологическая практика изобилует вопросниками, которые приносят если не вред, то, по крайней мере, нулевую информацию ввиду своей неадекватности объекту или условиям обследования. Для разработки информативной социологической анкеты необходимо определенное предварительное знание исследуемого контингента, учет его социальной психологии, языка общения, типичных ситуаций и т. д. В противном случае анкета в большинстве своих вопросов оказывается, мягко говоря, неуместной, она игнорирует реальную обстановку и направлена не по адресу. На практике респондентам сплошь и рядом предлагают стандартные клише-стереотипы вопросов и подсказок (вариантов ответов) и получают, естественно, вежливое согласие со всеми этими клише, но отнюдь не социологическую информацию. Методические ошибки часто стимулируются слабостью, поверхностностью знакомства с объектом. Участвующее наблюдение, а также интервью и другие неформализованные методы, не претендуя на массовость собранного материала, широту обобщений и законченность выводов, приоткрывает перед исследователем пусть ограниченный участок действительности, но за то такой, «как она есть», и тем самым предостерегает исследователя от многих ошибок на последующих этапах.
(А.Н.Алексеев. 5, с.66)
Предположим, исследователь поставил вопрос респонденту: «Какую Вы предпочитаете литературу?» с подсказками: классическую; современную; и ту, и другую. Последняя подсказка показывает, что для составителя анкеты такое дихотомическое деление – исчерпывающее. Но для респондента его может вообще не существовать. При выборе книг (т.е. в своем реальном поведении) он, скажем, пользуется такими видовыми делениями: литература о войне, детективы, литература детская, литература зарубежная. Несмотря на нелогичность и незаконченность такой классификации, именно с ней он «работает». Но отвлеченно, в ситуации опроса, респондент может принять лишь то расчленение, которое ему предложат (а что ему остается делать?) и выбрать что-то. В лучшем случае – «и ту, и другую». В итоге исследователь получит ответ, который вообще не дает никакой информации, так как ничему не соответствует.
(Э.А.Чамокова. 122. с. 63)
Для проведения исследований необходим понятийный аппарат. Формирование системы понятий всегда является определенным научным достижением. Существует два уровня формирования этих понятий. Первый уровень – это язык, на котором респонденты описывают наблюдаемые ими явления. Второй уровень – это формирование на этой основе более обобщенного языка, описывающего типологические случаи. Глубокое интервью – это своего рода «открытое исследование», поиск первичных понятий, первичных описаний и работа по их структуризации. Основная ошибка социологов, работающих с помощью формализованных анкет, заключается в следующем: реальности, объекту они навязывают понятийный аппарат, сформированный для других целей и объектов других типов. Склонность к рефлексии у нас в обществе вообще очень мала, и социологи в своей массе не являются исключением. Поэтому навязывание объекту чуждого ему концептуального аппарата в социальных исследованиях – обычное дело. Не проводится тонкая работа по формированию первичных описаний и последующему переводу языка этих описаний на более обобщенный язык науки.
(В.А.Найшуль, устное сообщение)
Ученые, изучающие экономику, испытывают острый дефицит первичной информации. Статистика не всегда помогает, поскольку ни один объект не может быть описан сплошными измерениями. Не случаен интерес экономистов к газете. Газета служит источником информации, но источником зачастую некачественным и неадекватным. Журналисты, как правило, не обладают высокой экономической квалификацией. Имеющийся у них материл они пропускают через собственное сознание, искажая его и не умея заглянуть вглубь проблемы. Правда, встречаются очень сильные журналистские работы, но их мало. Экономисты не могут строить свою работу, опираясь исключительно на вершины публицистики. На этом фоне глубокие интервью представляют собой материал на несколько порядков более качественный, чем газетные публикации. В них сами собой всплывают проблемы, которые еще ни разу не поднимались ни в публицистике, ни в научной литературе. Казалось бы, простая вещь – интервью, но ее информативность бывает просто удивительной.
(академик Ю.В.Яременко, «Экономические беседы)