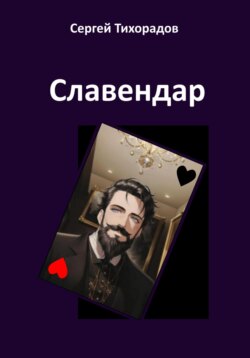Читать книгу Славендар - Сергей Николаевич Тихорадов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ужин
ОглавлениеНа ужин была буженина, картошка с луком, и легкое домашнее вино из кубанской станицы. В этом доме подлым веганством и не пахло, мы были натуралами по всем параметрам. Батя где-то прослушал лекцию о питании мозга, и теперь уверял, что без мяса никак. Без мяса не будет белков, из которых строятся аминокислоты, которые кушает мозг. А без мозга тоже никак.
Раньше я любил спорить с батей, просто из детской вредности, обусловленной невыполнимым желанием казаться старше. А сегодня что-то не спорилось. Я даже рот себе прикрыл пару раз ладонью, опять глотая вылетевшее слово – настолько мне не хотелось одержать верх в споре.
Мы сидели возле большого круглого стола в комнате, которую мы называли тоже «большой». «Зала» не прижилась, масштабы не те.
– Роза! – позвала мама, – Розочка, неси буженину!
Роза, приемная роботиха, выдвинулась из кухни на метр, поклонилась, развернулась, и важно покатила обратно на кухню. Батя недовольно фыркнул, глядя на квадратный удаляющийся зад Розы:
– Големша! Послал же Бог!
От навязанной големши было не отвязаться. По закону, если у вас не было своего домашнего голема, вы были обязаны на две недели в году брать в семью приёмыша – «большак» изучал взаимодействие интеллекта своего голема с гражданами, не желавшими приобретать сию тварь даже в кредит. Отказаться было невозможно, разве что по медицинским показаниям. Но и тогда Большой мог навязать голема, чтобы изучить того, кто «по медицинским показаниям» не желает иметь голема… пока не желает. Государство всячески поощряло големоводство, ничего не попишешь.
– Роза, – сказал батя, – Ишь… Роза!
Големша даже не выглянула, разумно посчитав, что ее на этот раз не зовут. Батя повернулся ко мне и начал вещать, грозно выкатив глаза, будто я его оппонент.
– Дать паршивой големше человеческое имя… да раньше лошадям запрещалось давать человеческие имена! Лошадям! Живым тварям, не этой химии!
– Да не то слово, – сказал я, – Роза – это еще и цветок, тоже живой, между прочим. Роза благоухает и призывает к любви… а эта дура к чему призывает?
– Ни к чему, – согласился батя, – Живая роза способствует расцвету жизни, она благоухает феромонами, она зовёт самца розы. Вы знаете, что роза пахнет феромонами? Вы, когда нюхаете розу, на самом деле нюхаете ее половые органы.
– Фу-у, Коля, – недовольно скривилась мать, – Зачем сравнивать розу и человека? Тем более, что феромонами пахнут не… эти, а подмышки.
– Я не хочу нюхать подмышки розы! – заорал батя. – Я человек! Меня создал Бог, а не… очкасто-задрипанный хомо дигиталус… которого скоро будут питать по трубочке, пока он валяется… в виртуальных очках… без порток… синий, как слива.
В принципе, я с батей был согласен по всем пунктам. Даже с тем, что батю создал Бог, я был согласен. Некоторые товарищи уж точно от обезьяны произошли, а мой батя от Бога. Здесь нет никакого противоречия, потому что Бог не обязан быть одномерным. Это человек одномерный, у него одно из двух – либо ты от Адама, либо от обезьяны. А у Бога может быть одновременно и то, и другое, и даже третье, например, что человек произошел от инопланетян. Если честно, такая многомерность Бога мне нравилась.
Батя разогнался, и мог бы вещать до утра, но из кухни совершенно не вовремя снова выползла Роза, уже с бужениной на подносе из нержавейки. Выползла, и зачем-то остановилась. Наверное, на батю обиделась, они же всё слышат, как собаки.
– Розочка, иди сюда, роботуля, – засюсюкала мама.
Розочка опомнилась, подкатила к столу, и аккуратно поставила поднос в самый геометрический центр.
– Спасибо, Розочка, – сказала моя мама, добрая душа.
– Сахарок ей в пасть кинь, ей спасиба мало, – ворчливо посоветовал батя.
– Кушайте на здоровье, – грудным голосом отозвалась Роза, база данных, которую научили говорить «я».
У людей архетип матери – это корова, а у големов – Роза, подумал я. Ей бы еще передничек… ага, и бигуди… да ну их в баню, такие мысли! Тоже мне, корова Роза.
– Проваливай, – буркнул я, чтобы поддержать батю.
Мама на меня зыркнула, но промолчала. Роза развернулась и отчалила.
– Картошечку там, и все остальное, – виновато попросила вдогонку мама.
Не оборачиваясь, Роза кивнула. В написании ее софта участвовали талантливые психологи.
В честь исчезновения Розы возникла легкая пауза, повисела над столом немного, и была развеяна батей – сегодня он был в ударе. К его чести стоит заметить, что он подождал целую минуту, пока мама пилила и раскладывала по тарелкам съестное. Делая это, она даже покраснела виновато, мол, хоть так могу послужить семье.
– Хватит, спасибо, – поднял ладонь батя, – Это съем, потом еще положишь
Мама послушно опустила гигантскую раздаточную вилку с куском буженины обратно на поднос, словно «мазерати» припарковала.
– Завтра Юрьев день, – сказал батя, – Выгоню Розу… всех бы выгнал.
Мы с мамой переглянулись: надеюсь, не нас он имел в виду? Или только всю эту роботизированную шушеру, что понабилась в квартиру самым тараканьим образом? Пресловутый утюг с интернетом, способный определять тип ткани под собой и автоматом выставлять температуру, даже матери уже надоел. Да и все остальное изрядно обрыдло.
«Ничего, стану луддитом, разберусь с этим дерьмом», неожиданно услышал я свою мысль. Вот те на… что, и впрямь я этого хотел?
«Юрьев день» по-шуточному, или День смены Большого производителя, действительно маячил на горизонте. Но по факту мало кто менял «большака». Ибо себе дороже!
– Розочка хорошая, – сказала мама робким голосом.
– Я тоже хороший, – возразил батя.
А я не понял, к чему он это сказал, вот честное слово! Полет батиной мысли заковырист, местами смел, и зигзагообразен. Никогда не угадаешь, куда залетит его мысль.
Я сидел и терпел – потому что мне очень не хотелось всё это оставлять. Маму, батю, буженину, приемную дуру Розу, весь этот мирный дом, в котором прошло… да никуда оно еще не прошло, моё детство. Пока над столом маячило теплое, обнимавшее меня наше «мы», я тихо млел, жевал буженину, и слушал батину чушь. Он что-то говорил, говорил, говорил… а я жевал, как корова, и разве что изредка выворачивал свое внимание наружу.
– … я и говорю, что вербунов этих развелось море, – сказал батя, имея в виду вербовщиков Больших производителей, – Синоптики бы так погоду просчитывали, как они нас. Давеча один мне прямо на тротуаре попался…
Я снова отключился от его слов, возвращаясь в страну тепла. Представил на полсекунды, как вербун почему-то сидит прямо на тротуаре, и хватает проходящего мимо отца за ноги. Прямо скажем, не лучший способ разрекламировать свой «большак», пусть и за полпроцента от пожизненного страхового пая гражданина. Разве что, ты работаешь на Рысакова: тут еще как-то можно связать в кучу ноги, тротуар, транспорт.
Через какое-то время мне показалось, что батя со мной разговаривает, а я не слышу. Я очнулся, присмотрелся – так оно и есть, разговаривает.
– Что не так, Пашка? – спросил батя.
Я сделал глупое лицо, вернее, оно само сделалось автоматически. Похоже, это моя нормальная реакция.
– А что не так? – задал я глупый вопрос глупым ртом.
Батя внимательно на меня посмотрел, и я этот взгляд вспомнил – так военком на меня смотрел. Я военкому четверть часа доказывал, отвечая на его вопросы, что я нормальный, и со здоровьем у меня все хорошо, и от службы отлынивать не собираюсь. Военком смотрел на меня, и на его умном лице был вопрос – парень, почему ты не врешь?
– Что не так… А всё не так, – сказал батя, – Ты сегодня со мной не споришь, Паша.
Я пожал плечами, мол, подумаешь, не спорю… ну, не спорю, и что с того? Но в воздухе уже успела зависнуть батина интонация. Такого рода шуточки он умел устраивать похлеще Чеширского Кота. У того улыбка зависала, хоть она всего лишь картинка, которую трудно вообразить. Но попробуйте вообразить интонацию, оставшуюся без хозяина! Где, в каких неведомых университетах батя научился выпроваживать свою интонацию на свежий воздух, отрывая от слов?
Аккуратно, стараясь не затронуть висящую над столом интонацию, я поднял на батю глаза. Мои ужимки его явно не удовлетворили. По выражению батиного лица стало ясно, что без слов с моей стороны не обойтись. Я набрал полную грудь воздуха, даже шумно как-то получилось, но батя меня снова опередил.
– Выперли из Переходной, да? – спросил батя.
– Коля! – сказала мама.
– Выперли, – сказал я, и резко выдохнул.
Моментально где-то внутри меня возник шар. Я прислушался к ощущениям… ага, вроде поймал. Шар болтался в груди, пульсировал, как больное солнце, и с каждой пульсацией расширялся, вырастал, матерел. Я испугался, что он сейчас лопнет, этот шар. Лопнет, и я разрыдаюсь, развалюсь на куски, брошусь исповедоваться на батины плечи, как никогда раньше и не делал, и не собирался. Так только барышни в кино делают, но у них и бати другие.
Батин вопрос был таким неожиданным, что впору было задать вопрос «что не так, батя». Ты раньше никогда не стрелял вопросами, батя. Скорее ответами.
Кстати, спасибо, что своим вопросом ты подсказал мне ответ. «Выперли», что может быть лаконичнее. Не надо подбирать более мягкие слова, гуманно блудить вокруг чистосердечного признания, увиливая от грубой мужской прямоты. А так, сказал «выперли» – и сразу легко на душе. Еще бы дурацкий шар куда деть…
Но оказалось, что старательно удерживаемая родителями тишина за столом, способна растворить шар, и проливать слезы мне не придется. Шар повисел в груди, повисел, и канул.
– Правильно, – сказал батя, внимательно изучая мое лицо каким-то совсем прокурорским взглядом, – Всё правильно. Не скажу, что я рад… потому что ты, вижу, не рад. Но всё правильно.
– Спасибо, папа, – сказал я.
Никогда я еще не слышал от отца таких правильных ласковых слов, бодрящих, возвышающих, внушающих уверенность и спокойствие.
Отец кивнул, принимая мою благодарность. Настороженно хранившая молчание мать взмахнула крылами, встрепенулась, вскочила со стула.
– Ой! – хлопнула она себя по бокам, – Пойду к Розе, пойду!
Отец проводил её взглядом, словно считал шаги до кухни. Я тоже считал. Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, всего семь. Надо же, какая маленькая у нас большая комната. От её середины до кухни всего семь маминых шагов, а у мамы совсем не большие шаги, она и сама не большая. Когда дверь за мамой захлопнулась, отец повернулся ко мне.
– Ну вот, – сказал отец, и потянулся за новой порцией Розиной стряпни.
Я тоже совершенно автоматически потянулся, и над подносом наши вилки едва не столкнулись, как аэропланы в воздушном бою. Мы переглянулись, и громко захохотали. Я уважительно заложил правый вираж, отвёл свой аэроплан, и батя первым наполнил тарелку.
Какое-то время жевали молча. Мама с Розой на кухне тоже притихли. Не сомневаюсь, они не подслушивали, просто подстраивались обе под главенствующую мужскую тишину. Хорошая женщина всегда подстраивается. А Роза вообще не женщина, она и так молчит.
Я был спокоен, как дрон без батарейки. Только что уступив отцу небо, я отсиживался на аэродроме, щурился на солнце, и ждал.
Отец тоже посидел, пожевал губами, потом откинулся на спинку стула. Раздался легкий хруст, коего я и сам неоднократно добивался от родных стульев. В этом мы с отцом тоже были похожи, мать регулярно нас пилила за то, что мебель портим.
– Так, – сказал отец, и легонько хлопнул себя обеими руками по коленям.
Это его движение совсем не было похоже на нервную попытку мамы взлететь несколько минут назад. То ли отец наелся, то ли его вообще всё устраивало. Я ещё больше разомлел в его спокойных лучах.
– Да, я кричу на Розу, но ни разу не пнул, – вдруг сказал мой отец, – И ты не смей, Паша.
– А я… я никогда…я, – замешкался я, потому что про Розу совсем сейчас не думал, – Да я никогда!
– Это пока, – сказал отец.
Я понял, что он всё про меня знает. Как тогда, в детстве, когда я слил на пол воду из стиральной машины. Не по глупости слил, а чтобы испортить матери настроение. То есть, это по глупости и выходит, конечно. Отец догадался, но ничего не сказал маме, принялся молча прилаживать шланг на место. Я поглядел тогда на него, пошел и взял тряпку. Пока он чинил машину, я спешил вытереть пол. Отец работал четко, уверенно, будто чинить машинки – его профессия, и он занят этим всю жизнь. Время от времени отец поглядывал на меня. Я тоже исподлобья изучал движения отца, мне казалось, что он торопит меня своими оглядками, я и торопился, елозил дурацкой тряпкой по полу и отжимал ее в зеленое железное ведро с облупившейся местами эмалью. Эти ржавые пятна на ведре напоминали глаза плохо спавшего человека. Я торопился, отец торопился, но почему-то успели одновременно.
Спасибо, отец, что на самом деле ты тогда вовсе не торопился, а бросал на меня взгляды, подлаживаясь под мой темп. Это я только сейчас вдруг понял.
Вырвавшись из воспоминания, я чуть не заплакал.
– Ломать можно, пинать нельзя, – сказал отец, – Запомни. Запомнишь?
– Уже запомнил, – сказал я.
– Ну и хорошо, – снова шлепнул себя по коленям отец, и позвал, слегка повернув голову налево, к кухне, – Кира! Подавай… что там у тебя, подавай.
А я вспомнил еще напоследок, что зеленое ведро было само по себе тяжелым, а с водой и подавно. Было бы оно тогда легким, я бы сейчас не понял отца.
В тот вечер еще сидели долго. Употребляли приемлемой градусности вино, съели всё «от Розы», невежливо и с насмешкой обсосали косточки пылесосам, дронам и утюгам. Я обсасывал, и одновременно боролся с желанием уединиться. Я не могу переживать на людях, не приучен‑с. Так вышло, что с моего стула была видна дверь в мою комнату, и я временами бросал на нее тоскующий взгляд. Дверь была из светлого дерева, я когда-то сам ее лакировал. И наличники сам прилаживал!
Никто не может сказать, что я белоручка. Вон, слева от двери, две бумажные бабочки на стене, в метре одна от другой, красивые, цветастые, усики в стразах. Мама бабочек наклеила. Бабочки прикрывают две дырки, оставшиеся от болтов. Это у меня был в юности здоровенный музыкальный центр, и я поставил его на собственноручно приделанную к стене полку. А кроме незлобивости и бесполезности, у меня имеется еще одна особенность – я не верю в прочность строительных конструкций. Поэтому полку для центра я привинтил к стенке на два здоровенных болта, просверлив стену насквозь. Мать пришла с работы, и увидела слева от двери две торчащие гайки на двадцать один. Даже попробовала их отколупать – но они были привинчены к болтам, на которых держалась полка. Эх… пожалуй, не буду вспоминать тот скандал. Центра давно уже нет, а полка осталась. И пара бумажных бабочек прикрывает гигантские гайки, которые лучше не убирать, чтобы обои не переклеивать.
Над нашим древним круглым столом носились ароматы буженины, картошечки, свежей зелени и вина. Вошла Роза, запустила встроенный в квадратные плечи запахоуловитель.
– Эй, Роза! – возмутилась мама, – Мы этим дышим!
– Я знаю, – с достоинством ответила Роза, – Я забочусь о свежести воз…
– Мы этим дышим, нам нравится! – крикнул я, – Вырубай давай!
Роза среагировала на интонацию, отключила девайс.
– Могу предложить синтезированный запах таежного костра, – посулила нам Роза.
– Розочка, иди на кухню, – вежливо попросила мама, – А ты не ругайся, Паша.
Ругаться на кусок железа – та еще радость, я с мамой согласен. Отец ухмыльнулся, наблюдая привычные мамины попытки сгладить волну.
– Твоя школа, – укоризненно сказала мама.
– Еще бы! – загордился отец, – Пашкина цель – наблюдать за полетом отца! И улететь дальше, разумеется.
Отец на меня посмотрел – понял, сын? Но сын как-то не понял.
Тогда отец пояснил:
– Миша Жванецкий… я тебе о нем рассказывал… сказал однажды, что цель сына —наблюдать за полетом отца.
Отец мало о себе рассказывал. Еще меньше он рассказывал о своих друзьях и знакомых. Вроде бы он упоминал уже этого Мишу… не помню точно. Сейчас бы сказать: да, папа, помню конечно, как ты про него нам рассказывал.
– Стало быть, – попробовал я выбраться из ситуации, – твоя цель – это лететь? Чтобы мне было за чем наблюдать.
– Ну да, – согласился отец несколько недоуменно. Было видно, что с этой стороны он слова своего знакомого не рассматривал.
– Если заведу себе робота, назову его Миша, – пообещал я.