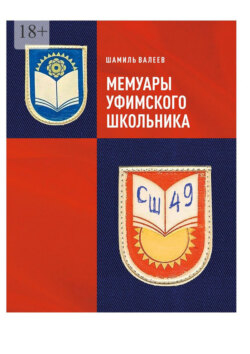Читать книгу Мемуары уфимского школьника - Шамиль Валеев - Страница 21
Ужасы младшего студента
ОглавлениеЧто я делал на истфаке БашГУ – до сих пор для меня загадка (по крайней мере, до «экватора»). Год я вообще не понимал, как меня туда занесло, и находился в перманентном ужасе. Вроде домашнее задание не проверяют на каждом уроке. Но какие-то закорючки ставят в кондуит на семинарах.
На самом деле меня туда навострила учительница истории Сан Санна Миняева, супруга основателя знаменитой учительской династии Германа Константиновича [cм. «Университеты школы №49». – Авт.].
На фоне моих однокурсников, которые в школе запойно читали В. Яна, Ф. Энгельса, В. Костомарова, Б. Грекова и других, я был какой-то поверхностно нахватанный.
Мне было жутко неинтересно, кто кого воевал (это вообще тощища – ну армия этого двинулась туда, армия того заняла такой-то город), особенно не нравилось знать, где какая династия правила. И даже забавные казни Сыма Цяня не очень забавляли.
Знакомая по школьному учебнику и «Клубу путешественников» египетская древность оставила в голове ровно одно представление: царско-храмовое хозяйство. Типа, из-за Нила земля была до того плодородной, что людей надо было чем-то занять. Например, пирамидами. Там и сейчас со жрачкой хорошо, особенно с овощами, пять урожаев в год, разве что говядины маловато.
Любимое по «Айвенго» Средневековье оказалось беспросветным кошмаром про каких-то безземельных крестьян и совсем не про благородных любовников и рубак.
Любимая по легендам и мифам, персеям и гераклам Греция – «и ты, Брут!» – приобрела очертания в моём удивлённом мозгу лишь в середине нулевых, когда услужливый Голливуд начал визуализировать все эти сказочки, шутка ли: мама Александра Великого – Джоли, богиня хищной красоты. Самое интересное было, что во время просмотра этого кино про Античность я всё время знал, кто это на экране, какие у него ресурсы и повадки и что будет дальше.
В принципе, несколько курсов древняка и средняка можно бы заменить хорошими сериалами, типа Rome (HBO, 2005). Но с обязательным разбором полётов на «коллёквиуме». Общее ощущение от первого курса – я здесь по ошибке. Забоялся ехать в МГИМО. Ни черта не понимаю в том, что рассказывают на лекциях. Зябко в 215-й. Занимаю чужое место. Перестройкой тут и не пахнет: сплошные, беспросветные классики МарЛена4.
Хотя конкурс был 4,5 на место, в моём 1990 году уже партийной, политической карьеры было не сделать. И основу курса составляли разночинцы, а не номенклатура. И были ребята, которым на самом деле было интересно про всяких меровингов и каролингов. И мне от этого вдвойне было стыдно.
История не давала ответа на вопрос: ну и что? Ну, было и прошло. Разве есть какие-то законы, цикличность?
Игнорируя всякие грюнвальдские битвы (1410 год?), басилевсы и северные царства, мозг всё же цеплялся кой за что. Например, за факты и суждения, обнажающие структуру, методологию, систему. То есть мне всё же нужны были правила, закономерности. Которых было крайне мало в безумной куче цифр, названий и имён, большинство из которых я потом тоже не слыхивал. Ну и чему учит история? Тому, что она ничему не учит.
На удивление было нечто для меня интересное в схоластических предметах (об этом особо – на следующем уроке) этнографии, хотя мне жутко не хватило филологических подходов в изучении народов и собственно запрещённой науки этнологии. Я даже законспектировал энгельсово «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и, найдя там некую методу, нанизывал на неё описательные, повествовательные предметы. Кроме того, внимание выхватывало всё, что связано с технологиями завоевания и отправления власти, пропаганды, поведением политических элит (как правило, вероломным, предательским, циничным и антигосударственным), и то, что связано с региональностью, царской властью и этнопсихологией. И это здорово пригодилось потом, при демонтаже региональной этнократической (как мне казалось тогда, на самом деле она была аграрной) тирании, которую идейно строили примерно такие же истфаковцы, как я. Но это – уже другая история. Ненаписанная.
Самое главное, что я с болью и кровью усвоил в первые два курса: если не хочешь погибнуть под завалами информации, – ищи систему, закономерность. Хотя как грюнвальдская битва повлияла на позицию Гильфердинга по поводу эстетики баухауса, я так и не понял, Иван Дмитриевич!
Второе самое важное: мы все ничтожные микробы, и нельзя ни из кого и ни из чего делать культ, поскольку всё проходит.
И третье: никому не верить. Ни либералам, ни демократам, ни консерваторам, ни тиранам. Вообще никому.
Четвёртое: ты для всякой современной политики даже не врач, а скорее патологоанатом. Поскольку и это пройдёт.
Только спустя много лет (а уже двадцать прошло, оказывается) я понял, что иного образования (широкого политического) мне и не нужно было особо. Здоровый докторский цинизм, приобретённый во время раскопки унылых косточек и щупанья нестрашных черепов, здорово помогает видеть за происходящим чуть большее.
И все остальные гуманитарные науки мне кажутся у́ же и схоластичнее, «болтологичнее». Там ведь меня никто не учил думать – типа, думай так, а потом вот так, и это называется «силлогизм». Просто вываливали то, что считали нужным, мне на голову так, чтобы я имел стимул и шанс приспособиться к переработке кучи, казалось бы, бесполезной информации.
Кто ж, кроме футуристов и фукуям, знал, что в XXI веке, ровно через пять лет после чуть не потерянного по пьянке диплома, этот навык – вычленять главное в любой куче «говн мамонта как исторического источника» – окажется самым важным в моей работе и жизни.
4
МарЛен – марксизм-ленинизм. Термин использовался для обозначения обобщённого и доработанного Лениным учения Маркса (ред.).