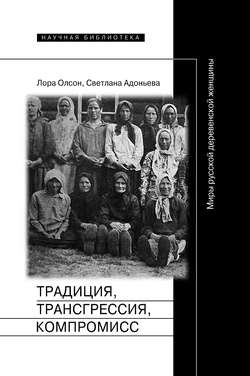Читать книгу Традиция, трансгрессия, компромисc. Миры русской деревенской женщины - Светлана Адоньева - Страница 11
Глава 1
Патриархальные традиции и женское знание в истории российской фольклористики
Причитания
ОглавлениеЕсли сказку и былину ученые рассматривали как исходно мужские жанры, то причитание имеет совершенно иную историю собирания и изучения. Зафиксированные в XIX веке свидетельства дают возможность предположить, что причитание было в России исключительно женским фольклорным жанром. Более ранние свидетельства не столь ясны: древнерусская литература приписывает причитания женщинам, мужчинам, а иногда «людям» вообще, что позволяет ученым считать, что в Древней Руси их могли исполнять и мужчины, и женщины ([Чистов 1960: 15 – 16], см. также [Kononenko 1994: 17 – 34]). Дополнительным свидетельством, поддерживающим это предположение, является существование мужских причитаний в соседних культурах (грузинской, осетинской, украинской, сербской); в корпусе записанных русских причитаний также встречаются фрагменты, изложенные с мужской точки зрения, от мужского лирического «я» [Ульянов 1914: 241 – 242; Чистов 1960: 16; Чистов 1988: 79; Kononenko 1994: 17 – 34; Чистов 1997: 480].
Поскольку ученые считают русские причитания исключительно женским жанром, они используют этот жанр как отправную точку для поэтизации женской роли «народных поэтесс» и «фольклорных жриц – хранительниц предания отцов», в особенности в отношении причитаний на смерть сыновей и отцов и причитаний по рекрутам [Ульянов 1914: 241]. Наталья Кононенко отмечает, что собранные учеными коллекции причитаний обычно включают больше причитаний на смерть мужчин, нежели женщин [Kononenko 1994: 25][47]. Особое внимание ученых к женским плачам по мужьям, отцам и сыновьям тем не менее не означает, что женщины не оплакивали смерть матерей, сестер и дочерей. Наши полевые исследования показывают, что женщины причитают, оплакивая уход родственниц и родственников, и нет причины полагать, что эта ситуация была иной в прошлом. Возможно, акцент, который делают и собиратели, и исполнительницы на причитаниях по мужчинам, связан с тем, что потеря мужчины в патриархальном обществе более значима и напрямую связана с выживанием всего рода[48]. Особая значимость потери мужчины прослеживается также и по срокам траура: они были меньше для вдовцов, нежели для вдов [Мадлевская 2005: 30].
В рамках русской патриархальной системы женщины были хранительницами духовных практик семьи и общины. Они отвечали за правильность исполнения ритуалов жизненного цикла, так что похоронные и поминальные практики были важной частью их знания (см. главу 9; также [Прокопьева 2005: 637 – 638]). Поэтому не вызывает удивления то, что именно женщины исполняют причитания – жанр, занимающий центральное место в похоронно-поминальной традиции. У мужчин была своя важная роль в похоронном обряде: они делали гроб и копали могилу; но, как правило, во время похоронного ритуала мужчины хранили молчание [Адоньева 2004: 196, 199]. Женщины же во время похорон могли оказаться в одной из двух ритуальных ролей – посвящаемой или посвящающей. Посвящение в причетную традицию происходило, когда женщина первый раз в своей жизни причитала публично, впервые потеряв кого-то из близких: родителя, ребенка или мужа. В причитании женщины выговаривали свое горе, но помимо этого причитание обладало особой ритуальной функцией, оно позволяло «правильно» провести своего близкого в мир мертвых. После того как женщина проходила такую инициацию, у нее был выбор: она могла продолжать причитать только по членам семьи – на похоронах и в поминальные дни – или же становилась признанной плакальщицей – в этом случае она принимала на себя роль посвящающей, принимала участие в похоронах не только родственников, но и соседей, открывая своей причетной речью сакральный смысл ритуала [Адоньева 2004: 220 – 222, 227, 231, 234].
Когда жанр причитаний впервые был зафиксирован (в 1860-е годы), фольклористы ссылались именно на творчество таких опытных, известных своим мастерством, «посвященных» причетниц[49]. Ученые рассматривали причитания скорее как поэтические произведения, наряду со сказками или былинами, нежели как ритуальную форму. Но, поскольку причитания составляют значимую часть ритуала, их характер существенно отличался от иных фольклорных жанров. Их звучание вне ритуала, в качестве поэтического произведения, исполненного для собирателей фольклора, не было естественным [Лихачев 1987: 522 – 529]. Причитания опытных плакальщиц провоцировали на то, чтобы видеть в них произведения искусства, поскольку в их устах плачи были не только экспликацией горя. Такие причетницы обладали как особой прозорливостью, даром особого видения, так и особым социальным статусом – заслуженным и признанным. Первое обеспечивало их способностью, а второе – наделяло правом говорить о моральном долге и чувствах других [Адоньева 2004: 233]. Практика причитаний таких воплениц действительно была связана с былинной: во многих случаях причетница заимствовала из былинной поэтики отдельные эпические обороты и даже целые периоды [Там же: 233; Причитанья Северного края 1997: I, 382].
Именно такой была Ирина Федосова, самая знаменитая русская вопленица XIX века. Ее причитания, записанные в 1860 – 1880-х годах и исполненные перед российской публикой в 1890-е годы, были для российской общественности образцом протестной поэзии, клеймящей «злодеев» и превозносящей «героев» крестьянского общества. Ее жизненная история может служить примером того, как воспринимались жанр и женское знание в целом учеными, журналистами и обычной публикой.
Как было упомянуто в разделе о былинах, в 1890-е годы появилась идея показать крестьян-исполнителей фольклора широкой публике: их привозили для концертов в Москву и Петербург. Среди них была и 75-летняя Ирина Федосова; городская аудитория приняла ее с энтузиазмом. Чтобы представить публике исполнителей-крестьян, некоторые ученые и музыканты организовывали «этнографические концерты», проходившие в научных обществах, школах и частных домах; в столичных газетах печатались объявления, сообщавшие о возможности пригласить исполнителей для частных концертов [Чистов 1988: 49; Смирнов 1996]. Так фольклористы надеялись заработать денег, а также увеличить свой социальный капитал. Вторжение в сферу арт-менеджмента завело их в такие неожиданные мероприятия, как, например, Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде 1896 года, на которой выступала Федосова.
Крестьянка с озера Онего в Карелии, Федосова стала объектом огромного внимания со стороны фольклористов и интеллектуалов с семидесятых годов и широкой публики в девяностые. Ее «открыл» Е. В. Барсов, преподаватель психологии и логики петрозаводской семинарии. Он записал причитания с ее слов в конце 1860-х, опубликовал их в трех томах в 1872 – 1885 годах – и, благодаря этому изданию, существенно преуспел в карьере. Ее импресарио во время московских и петербургских гастролей 1895 – 1896 годов и на нижегородской выставке стал другой человек, П. Т. Виноградов, учитель Петрозаводской женской гимназии, который, очевидно, также предполагал сделать себе карьеру с помощью Федосовой. Во время многих выступлений Федосовой (в том числе в Нижнем Новгороде) Виноградов исполнял роль конферансье. Максим Горький, один из четырехсот российских и европейских журналистов, посетивших эту выставку, написал о ней серию статей для газеты «Одесские новости». Верный своим антимонархическим взглядам (Горький тогда принадлежал к подпольному социалистическому движению), он критикует и иронически описывает многие аспекты этой выставки: пишет о плохой организации, о толпах бездельников и гулящих женщин, которых она привлекала, и о недостатке «русскости» в оформлении и экспонатах. Четвертая его статья из этой серии характеризует Федосову как глоток свежего воздуха на фоне попытки демонстрации российской современности, индустриализации и европеизации. Статья начинается со слов: «Я давно не испытывал ничего подобного» [Горький 1953b: 230]. Горький противопоставляет публику (торговцев, учителей, светских дам) фигуре, появившейся на сцене, чтобы выступать перед ними, – вопленице Федосовой. Горький дал оценку Виноградову, описав его скучную, длинную, тусклую речь, которую никто не слушал. В отличие от всех этих безжизненных людей Федосова в описании Горького выглядит живой, яркой, исполненной мудрости и юмора.
На концертах Федосова исполняла былины, баллады, свадебные и лирические песни, но больше всего она стала известна своими причитаниями (в афишах ее именовали вопленицей), и для Горького именно они были кульминацией ее выступления. Для Горького и других критически относившихся к культуре царской России Федосова была воплощением истинной России, нетронутой псевдофольклором, псевдоискусством и духом декаданса. Судя по данному Горьким описанию реакции публики, скучавшая аудитория вначале почувствовала себя огорошенной, затем «разразилась громовыми аплодисментами» и в конце концов разрыдалась, околдованная «глубиной ее берущих за душу причитаний»: это было так непохоже на то, что они обычно слушали в кабаре и кафешантанах. «Федосова вся пропитана русским стоном, – пишет Горький. – Около семидесяти лет она жила им, выпевая в своих импровизациях чужое горе и выпевая горе своей жизни в старых русских песнях» [Горький 1953b: 232 – 233].
Для Горького Федосова стала не только символом аутентичной России, но и ее воплощением – тем, в чем нуждалась публика. В оценке Горького присутствует некий парадокс: ее поэзия принадлежала «народу», но была чем-то новым для российской аудитории. «Народ», к которому принадлежала Федосова, был далеким Другим для городской публики. Более того, ее экзотичность по отношению к горожанам подчеркивалась всеми, кто так или иначе использовал ее образ (Барсов, Виноградов и, наконец, Горький).
Почему Россия хотела слушать причитания? Очевидно, в конце столетия, в период устойчивого промышленного роста и при этом – голода и бедности, реакции и терроризма, за десять лет до первой русской революции, Федосова давала выход чувствам, которые испытывали многие [Riasanovsky 1993: 396, 431]. То, как она выражала горе, давало выход эмоциям, и в особенности – эмоциям мелодраматическим. Для Горького и ему подобных ее песни о крестьянских бедах были призывом к социальным переменам; для других – выражением их собственной скорби о личных потерях. Как отмечал К. В. Чистов, монографически исследовавший творчество Федосовой, для Некрасова и других она «была интересна не своей индивидуальностью, но, напротив, типичностью, точностью воспроизведения обстоятельств крестьянской жизни» [Чистов 1988: 287]. Они не осознавали как раз того, что Федосова и среди крестьян была не типичной, но выдающейся личностью, а владение причетной речью было одним из проявлений этого. Конечно, в крестьянских сообществах были такие, как она, но их было не много.
Одной из важных характеристик причитания была его импровизационная природа. Для Горького (и, возможно, для других слушателей) это придавало представлению ощущение спонтанности и аутентичности. Также, возможно, это позволяло сильнее воздействовать на аудиторию, чем во время программных фольклорных представлений. Однако причитания Федосовой были одновременно и импровизированными, и сконструированными. Как пишет К. В. Чистов, в процессе представления ей приходилось компенсировать то, что причитания были извлечены из ритуального контекста. Публичное исполнение похоронных причитаний вне ритуальной ситуации было нарушением традиционных норм, поскольку причитания имели особую функцию: они помогали умершему перейти в иной мир. Поэтому Федосова сохраняла определенную дистанцию по отношению к ритуальной ситуации причитания, уравновешивая ее с помощью принятия на себя разных ритуальных ролей (плач невесты на могиле матери, плач невесткиной свекрови по отцу невестки – свату и т.п.), представляя ситуации, которые ей случалось наблюдать, и даже создавала причитание, в котором учитывались разные точки зрения, что делало каждый текст полифоническим ([Чистов 1997: 479]; см. также [Кремлева 2004: 672 – 674]). Чтобы компенсировать дистанцию по отношению к «реальности причитания», она – возможно, намеренно, а возможно, и бессознательно – использовала известные ей техники усиления эмоционального воздействия исполняемых ею причетов. Она делала фольклор искусством [Чистов 1997: 464].
Фольклористы не всегда осознавали уровень импровизации в причитаниях Федосовой. «Открывший» ее в 1867 году Барсов думал, что существовали особые традиционные причитания, с устойчивыми текстами для определенных семейных отношений: так, когда в течение двух лет он записывал причитания Федосовой, он просил ее исполнить традиционные «причитания вдовы на смерть мужа», «причитания дочери по отцу», «причитания дочери по матери» и т.д., считая, что она вспоминает, а не создает их [Чистов 1997: 479]. Федосова делала то, о чем ее просил Барсов, но в некоторых случаях было ясно, что, создавая свои импровизации, она представляла конкретных людей и конкретные ситуации. Степень этого недопонимания стала очевидной, когда на концерте в Политехническом музее в Москве в 1896 году он попросил ее «исполнить некоторые из тех причитаний, которые он записал». Она ответила: «Да и теперь я тех покойников не помню. Ничего причитать о них не могу…» [Там же: 478].
Горизонты ожидания [Jauss 1982] фольклориста и исполнительницы кардинально не совпадали. Общее символическое пространство их миров было чрезвычайно мало – это случается часто, когда фольклористы говорят с деревенскими женщинами об их жизни. Барсов не только упустил из вида импровизационную природу причитаний – он также утверждал, что Федосова была профессиональной плакальщицей, тогда как в действительности похоронные причитания никогда не исполнялись за плату (крестьянская экономика основана на взаимности, а не на денежном обмене) [Чистов 1988: 32]. Его утверждение отражает позицию исследователей конца XIX века, придерживавшихся собственных представлений о творчестве и профессионализме и игнорировавших социальные характеристики фольклорной среды.
Помимо названных непониманий было и еще одно: и Барсов, и другие ошибались в возрасте Федосовой. Богданов сообщал, что ей было 98 лет, а на самом деле ей тогда было 75. Когда Барсов записывал причитания Федосовой, ей было около 36 лет, он же считал ее пятидесятилетней и в своих описаниях подчеркивал ее преклонный возраст: «крайне невзрачная, небольшого роста, седая и хромая, но с богатыми силами души и высшей степени поэтическим настроением» [Барсов 1997а: 254]. Для образованных людей того времени, с их привычками мыслить в романтических категориях, она объединяла в себе гротескное и возвышенное: уродливая, хромая и древняя, но внушающая благоговение. Точная дата ее рождения неизвестна: у крестьянок не было повода помнить год своего рождения (в отличие от мужчин: им это было значимо для военного призыва). Возраст деревенских женщин оценивался их собственными представлениями о том, как долго длился каждый период их жизни. Позднее ученые высчитали, что Федосова должна была родиться в 1831 году [Чистов 1988: 23 – 25]. Очевидно, что и Барсов, и другие воспринимали ее в свете своих представлений относительно деревенских женщин, видя их старухами. Как отмечает Ольга Кадикина, роль женщины в сказке – ведьма, злодейка или дарительница, – несомненно, сыграла роль в восприятии старух как «знающих», то есть обладающих знанием фольклора, магии и ритуалов [Кадикина 2003].
Случай Федосовой наглядно демонстрирует предложенное Мишелем Фуко различие между доминирующим и доминируемым знанием. Как и многие русские женщины, с которыми соприкасались собиратели в XIX веке, Федосова вначале отказывалась исполнять причитания для Барсова из-за социальных запретов; согласившись в конце концов, она выставила свои условия для записи. Как пишет Барсов, она сказала ему: «Чего вам от меня надо? Знать я ничего не знаю и ведать не ведаю, какие такие причеты… Да и с господами я никогда не зналась, всяк сверчок знай шесток, и сказывать ничего не умею». Но когда хозяин дома, в котором остановился Барсов и которого Федосова знала, уверил ее, что он человек не опасный, она призналась, «что знает очень много, что с младости ей честь и место в большом углу, что на свадьбах ли песни запоет – старики запляшут, на похоронах ли завопит – каменный заплачет: голос был такой вольный и нежный» [Барсов 1997b: 253]. На протяжении тех двух лет, во время которых Барсов ежедневно посещал ее, чтобы записывать причитания, она назначала встречи сообразно церковному календарю и своим хозяйственным обязанностям.
По словам Барсова, несмотря на то что Федосова, казалось, охотно участвовала в работе, она недоумевала, зачем это нужно, и беспокоилась, что из этого может получиться что-то нехорошее. В середине работы она часто жаловалась ему: «Не сошли ты меня, Христа ради, в чужую дальнюю сторонушку, не запри ты меня в тюрьму заключевную; не лиши ты меня родимой сторонушки!» [Там же: 265]. После таких вспышек Барсов заново убеждал Федосову и, как он пишет, «восстанавливал ее доверие». Его карьера зависела от ее участия: после публикации нескольких статей, основанных на ее причитаниях, Барсов заслужил внимание самых известных филологов Петербурга и Москвы и получил престижное приглашение на работу в Румяцевском музее [Там же; Чистов 1997: 406 – 407].
Первоначальное нежелание Федосовой исполнять причитания вне ритуального контекста указывает на ее озабоченность собственной трансгрессией в отношении традиционных норм. Опасения же, которые она выражала в связи с тем, что ее могут увезти в «чужедальнюю сторону», указывают на то, что она знала, что близость к собирателям фольклора не наделяла ее особыми правами. Тот язык, который она использовала для выражения своих сомнений и беспокойств, в точности совпадал с языком причитаний, которые подчеркивают бессилие живых перед лицом всесильной, персонифицированной, «скорой Смерётушки»[50]. Тем не менее, риторически подчеркивая перед Барсовым свое бессилие, Федосова имела собственный интерес в этой работе и знала об этом. Она диктовала что-то вроде сатирических экспромтов по этому поводу, когда жила в доме О. Агреневой-Славянской (собравшей трехтомную коллекцию наследия Федосовой): «Я ем да пью, да и челом не бью; ем я досыта, пью я долюба; в дело нос не ткну, да и перстом не щелкну» [Чистов 1988: 45 – 46, 48]. Насколько мы понимаем этот небольшой текст, прожив всю жизнь в бедности и послужив другим, Федосова ощущала, что заботятся о ней заслуженно. Позднее, в 1890-х годах, когда у нее уже были и слава, и средства, Федосова продемонстрировала, что «не щелкнуть перстом» – не ее цель: она выкупила семейную землю, которую прежде приходилось арендовать, женила и снабдила средствами племянника, дала деньги на постройку школы в своей деревне и помогла получить права для крестьян на вырубку леса на восточном берегу Онеги [Там же: 48 – 54]. Тем самым она в полной мере реализовала свою агентивность, вопреки требованиям и ограничениям, наложенным на нее патриархальной традицией.
Федосова обладала исключительным мастерством и сильной волей. Автобиография, продиктованная ею Барсову, свидетельствует о жизненном опыте, который, очевидно, и сделал ее такой, какой она стала. Молодой женщиной Федосова выбрала брак со вдовцом, таким образом избежав долгих лет подчинения свекрови, которые обычно выпадали на долю молодкам – из статуса девушки она сразу переместилась в статус большухи, заняв вторую по значимости позицию в крестьянской семье.
И для фольклористов, которые писали о ней, и для публики, которая ее слушала в конце 1890-х, Федосова стала воплощением всего национального и традиционного. Собиратели, импресарио и журналисты воспринимали ее как архаическую сказительницу древнейшей поэзии, этакого русского Гомера, одновременно экзотического и «своего». Но Федосова не транслировала древние сказания, передававшиеся из поколения в поколение: она создавала произведения, в которых в равной пропорции использовала искусство, традицию и возможности самовыражения. Этот случай дает нам специфический пример того, каким образом доминируемое женское знание искажалось установками, заданными извне. В причитаниях фольклористы находили подтверждение своему идеализированному представлению о фольклорной традиции; причитания удовлетворяли их требованию аутентичности и поэтому были оценены как значимый элемент великой русской национальной культуры.
47
Кононенко использует этот факт как свидетельство того, что для женщин свадебные причитания были более важными, чем похоронные.
48
Более того, предвзятость собирателей, как и предвзятость самих информантов, могла вести к тому, что в собраниях преобладали похоронные причитания на смерть мужчин. Так, одна из исполнительниц причитаний, вспомнив и проговорив речитативом плач, исполненный ею на смерть своего мужа, заметила: «женские города не стоят» (Бел17а-35).
49
Чистов отмечал, что до появления собранных Барсовым причитаний Федосовой они обычно не рассматривались как самостоятельный жанр [Чистов 1988: 227].
50
Образ смерти из причитания [Чистов 1997: 474].