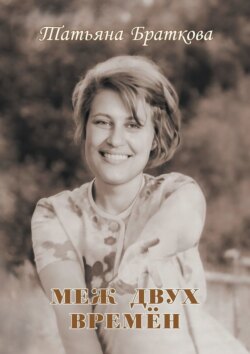Читать книгу Меж двух времён - Татьяна Браткова - Страница 4
РУССКОЕ УСТЬЕ
Меж двух времён
ОглавлениеТетка Огра поправила на голове полинявший платок, заправила корявым пальцем выбившуюся из-под него почти невидимую прядку волос, истончившуюся, потерявшую золотой, видимо, когда-то цвет. Беспощадные годы выпили с ее лица все краски, только глаза остались пронзительно голубыми.
– Дак я, чай, и не вспомяну, – пожевала она бледными тонкими губами. – Этту песню-то я ишшо в девках слыхивала. Стара песня. Шибко стара. Досельная. Уговариват молодец девку с им поехать и расхваливат городок свой, и расхваливат. Городок-де тот на красе стоит, на реченьке, что медом протекла. А девка яму и отвечат…
Тетка Огра смотрит куда-то вдаль долгим неподвижным взглядом и медленно, протяжно запевает. И голос её, усталый, словно изношенный и тоже выцветший, не взмывает ввысь, а стелется низко, как звук старого надтреснутого колокола.
Врешь ты, врешь, мальчишечка,
Меня омманывашь.
Казань-городочек на костях стоит,
Казанска реченька кровью протекла,
Мелки ручеечки горючими слезьми,
А по бережку – не камешки, буйны головушки,
Все солдацкие да молодецкие…
И у меня мурашки бегут по спине от звуков и от слов этой песни – и не только потому, что пришли они из глубин веков и поется в этой песне о покорении Казани Иваном Грозным. А потому, что за окном, в которое смотрит невыцветшими голубыми глазами – глазами старой русской крестьянки – тетка Огра, Аграфена Николаевна Щелканова, – не поле российское и не российские березы. За окном – ровная, как стол, тундра, уползающая на рыже-зеленом брюхе своем из мхов и лишайников за горизонт, к близкому Восточно-Сибирскому морю. А если выйти на порог дома, увидишь могучую холодную реку с нерусским названием Индигирка. Самое сердце якутской тундры. А в поселке живут русские. Не приехавшие сюда – здешние, исконные, местно-русские, как они сами себя называют. Самый западный из трех рукавов, на которые делится в дельте своей Индигирка, так и называется Русско-Устьинская протока. И поселок прежде так именовался, пока не пришла в чью-то чиновную голову прихоть обозвать его на долгие годы безлико – Полярный. Несколько лет назад историческое имя было, слава Богу, возвращено. Здесь, в низовьях Индигирки, жили отцы, деды, прадеды нынешних жителей поселка.
Откуда взялись здесь, на дальнем, глухом якутском севере русские люди? Давно пытаются ученые разгадать загадку Русского Устья.
Впервые официально упоминается оно в научной литературе в отчетах Великой Северной экспедиции капитан-командора Витуса Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев летом 1739 года проводил опись берега между Яной и Индигиркой, намереваясь пройти на боте «Иркутск» до Колымы. Бот вмерз во льды недалеко от устья Индигирки, и отряд Лаптева, покинув судно, перебрался на зимовку в «русское жило», то есть в Русское Устье.
В XIX веке в этих краях побывали участники различных экспедиций, обследовавших низовья якутских рек: и экспедиция М. Геденштрома, и П. Анжу – Ф. Врангеля и, уже в 90-х годах, И. Д. Черского.
Все они упоминают в своих записках странных, неизвестно как оказавшихся в этих краях несомненно русских людей, сохранивших в окружении разноязычных и разноплеменных местных народностей свой язык, обычаи и облик.
Подробное описание Русского Устья и его обитателей оставил Владимир Михайлович Зензинов. Он не был географом-исследователем или ученым-этнографом. Не по своей воле пришлось ему провести здесь девять месяцев – с января по ноябрь 1912 года. Зензинов был членом ЦК партии левых эсеров и первым политическим ссыльным, попавшим в столь отдаленные края.
В Исторической библиотеке я листала пожелтевшие от времени страницы журнала «Этнографическое обозрение» за 1914 год с воспоминаниями В. М. Зензинова. «Перед отъездом своим в Русское Устье я усиленно наводил в Якутске справки о жизни своих будущих сограждан, но, к удивлению своему, почти ничего не мог о них узнать. С трудом даже я мог составить себе представление о точном географическом положении Русского Устья и путях к нему: многие якутяне смешивали Русское Устье с Усть-Янском, а одно официальное учреждение даже сообщило мне, что маршрут мой в Русское Устье лежит через… Средний Колымск. О Русском Устье не было сведений ни у областной администрации, ни у ученых учреждений Якутска. Твердо знали здесь лишь одно: хуже и дальше Русского Устья в Якутской области нет места. Оно лежит на пределе человеческого жительства вообще – дальше идет ледяная пустыня Северного океана».
И вот почти после двух месяцев изнурительного и опасного путешествия в январе 1912 года Зензинов достиг, наконец, Русского Устья и почувствовал себя перенесенным на два столетия назад. Среди населения не было ни одного грамотного человека. Жили, отрезанные от всего мира, не зная ничего о жизни других людей, кроме ближайших их соседей – якутов и юкагиров. Календарем служила палочка с зарубками. Некоторую путаницу вносили високосные годы, о существовании которых здесь и не подозревали. Расстояния меряли днями пути, на вопрос, сколько времени прошло, отвечали: «чайнику доспеть» или «мясу свариться». Когда Зензинов разбирал свои вещи, жители с детским любопытством рассматривали незнакомые предметы – а таких оказалось весьма много: наибольший эффект произвела керосиновая лампа – и озадачивали Зензинова вопросами типа: «А как мука растет?» В ответ на его рассказы о далекой «тамошней» жизни, качали головами: «Мудрена Русь!» Но не это в первую очередь поражало Зензинова и тех исследователей, что побывали в Русском Устье и до, и после него. В такой же дикости и невежестве жили в то время и коренные северные народности, отрезанные от мира сотнями километров непроходимой тундры. Поражало больше всего то, что русскоустьинцы говорили на странном языке – вроде бы русском, но не совсем понятном человеку, приехавшему из России. Эта был древний русский язык – со многими присущими именно ему грамматическими особенностями, язык, на котором говорили наши предки. Зензинов приводит в своих записках много старинных слов, давным-давно ушедших из русского языка, но бытовавших здесь, на Индигирке. Ютить /хранить, сберегать/, баять /говорить/, морок /туман/, дивно /много/, досельный /прежний/, лонесь /в прошлом году/, шепеткой /красивый/, щерба/рыбная похлебка/, лопоть /одежда/. Их сотни, этих слов. Многие из них имеют в словаре Даля весьма примечательную ссылку: северные губернии. Действительно, чаще всего встречались в русскоустьинском наречии слова и обороты, свойственные обитателям русского Северного Поморья конца XVI – начала ХVII века.
Именно это обстоятельство послужило главным основанием для одной из бытующих догадок об истории появления русских на Индигирке – будто их предки еще в первой половине XVII века или даже раньше пришли сюда морским путем «прямо из России». Эта версия, очевидно, как более романтическая, была принята некоторыми писателями. А. Алдан-Семенов, например, в своей повести «Сага о Севере» пишет: «Как перелетные птицы, сбившись в большую стаю, отплыли они на самодельных кочах в метели Ледовитого океана. Какие ветры трепали их паруса, какие лишения перенесли они на гиблом своем пути? Как шли они сквозь слепые туманы, мимо ледяных полей и айсбергов, мимо диких островов и заснеженных берегов? Кто вел их без карты, без компаса, без опыта по глубинам Белого, Баренцева, Карского морей? Через сколько лет и сколько их добралось до Индигирки? Почему именно в этом окаянном, никому не известном месте прервали они свой мучительный путь на северо-восток? Для чего обосновались в устье реки они, предшественники Витуса Беринга, братьев Лаптевых, Семена Дежнева?»
Белеепоздние исследователи низовья Индигирки, например, Андрей Львович Биркенгоф, входивший в состав экспедиции Наркомводтранса и уже в советское время – в 1931 году – проживший почти год в Русском Устье, считал, что русские поречане-индигирщики являются потомками русских землепроходцев, которые в XVII веке пришли на Индигирку и Колыму сушей. И в погоне за драгоценными мехами – «мягкой рухлядью» – продвигались все дальше на север, глубже в тундру. «И если действительно специальные материалы указывают на консервацию здесь языка конца XVI – начала XVII века, – пишет А. Л. Биркенгоф, – то это только лишний раз подтверждает правоту такого заключения. Ведь достигшие Индигирки землепроходцы, участники походов „по прииску новых землиц“ были людьми, родившимися в конце ХVI – начале ХVII века. Владеть и говорить они могли только языком этого времени, языком своего детства и юношеских лет. И понятно, что в условиях территориальной изоляции, при отсутствии тесной связи с развивающимися районами русского заселения и дальнейшего притока оттуда русских людей, в окружении иноязычных и разноплеменных народностей здесь создались условия для консервации языка и фольклора конца ХVI – начала ХVII века».
Достоверных данных по истории появления русских в низовьях Индигирки нет до сих пор. Неясные устные предания о далеком прошлом сохранялись лишь в народной памяти. Тягуче и проголосно пели руcскоустьинцы песни и былины, в которых упоминались терема и кареты, никогда не виданные здесь, русские богатыри, например, Илья Муромец и Алеша Попович. Люди, никогда не видевшие ничего, кроме тундры, понятия не имевшие ни об истории, ни о географии, пели старинные былины, в которых упоминались Казань, Таганрог и даже Дунай-река. В.М.Зензинов пишет в своих воcпоминаниях, какое впечатление произвело на русскоустьинцев оброненное им замечание, что он неоднократно видел царя. Царь – лицо мифическое, имени его не знал никто. Но в былинах звучали имена Ивана Грозного и Петра I. Слышал здесь Зензинов и один из вариантов песни о Стеньке Разине, записанной в свое время еще Пушкиным:
Во городе то было, во Астрахани,
Появился детина, незнамой человек.
Не могу удержаться, чтоб не поделиться мыслью, которая меня тогда поразила: Пушкин мог знать о Русском Устье! Он виделся со своим приятелем по Лицею Федором Матюшкиным уже после того, как тот вернулся о Севера, где принимал участие в экспедиции Врангеля. А уж кто наверняка слышал о Русском Устье – это Владимир Набоков, с которым дружил Зензинов в парижской эмиграции. Воистину – «мудрена Русь»!
А. Л. Биркенгофу уже не удалось услышать многих из тех песен и былин, которые слушал Зензинов. Вот и мне уже почти через сорок лет после Биркенгофа досталась лишь одна из «досельных» песен. Старики поумирали, а былины и песни передавались из поколения в поколение только устно: до 30-х годов население здесь было поголовно неграмотным. Но говорили в начале 30-х еще на том же причудливом языке, что и двести лет назад. Я застала уже «следы» этого говора, в основном в речи стариков.
В 1928 году в поселке открыли школу. Построили ее, раскатав на бревна старую церковь. Преподавание велось на современном русском языке – учителя были люди приезжие. Якутский писатель Николай Алексеевич Габышев, учительствовавший в предвоенные годы, рассказывал мне о том, как старался научить детей говорить «правильным», то есть современным русским языком. В речи тех, кто окончил школу, сохранялись лишь некоторые черты исконного русскоустьинского говора.
Но сами люди, их быт, их привычки, их представления о мире в начале 30-х годов, судя по воспоминаниям А. Л. Биркенгофа, мало чем отличались от тех, которые застал здесь Зензинов в начале века. Время, казалось, стояло здесь – неподвижное, словно вмерзшее во льды и снега.
Перемены начались с появлением авиации – самолетов и особенно вертолетов.
В начале 30-х годов, когда сюда прилетел с разведывательными целями самолет и кружил над поселком, люди в панике побросали дома и бежали в тундру. В 60-х годах они пользовались и самолетом и вертолетом с такой же простотой и естественностью, как мы автобусом. Впрочем, первым колесом, которое они увидели «живьем», а не в кино и не на картинке, было как раз колесо вертолета.
Вообще коренные жители тундры – это явление, конечно, уникальное. В их вхождении в цивилизацию «постепенности» почти не было. Достижения современной цивилизации буквально свалились на голову людям, по образу жизни мало отличающимся от своих предков. Из-за страшной своей удаленности еще в середине века они мало что знали о другой, «тамошней» жизни. Железнодорожные рельсы и шоссейные дороги, поезда и машины, высокие каменные дома и заводы – да и вообще все, что составляет жизнь современного человека, они впервые увидели, когда в поселок стали привозить кинофильмы. В кино увидели они колосящиеся поля, горы, леса. Пришли к ним неведомые им доселе звуки: стук колес и шелест листьев, гудок поезда и пение соловья. Им открылись красота и многообразие мира. И то страшное, что было в нем: одними из первых фильмов, которые они увидели, были военные хроники. Единственное оружие, ведомое им до той поры, было охотничье ружье. Они настолько «не вписывались» в существующую жизнь, что во время войны здешних мужчин не брали на фронт.
Переломным годом в жизни индигирцев стал 40-ой год, когда вышло постановление Правительства о поселковании. Предписано было съезжаться в одно место и ставить общий поселок. До этого жили в рассыпанных «по лицу тундры» зимовьях, иногда по три-четыре семьи – это уже считалось поселением. Нередко – одна семья. Центром было Русское Устье – там было до десятка «дымов» – поселения считали не по домам, а по дымам. Место это для строительства нового поселка признали непригодным – берег сильно размывается весенней водой. Выбрали крутой берег на 20 километров ниже по течению. Как потом выяснилось – опять не слишком удачно: гора оказалась огромной ледяной линзой, которая по весне подтаивает и размывается ничуть не меньше, чем на старом месте. Однако в сороковом году переселили сюда жителей старого Русского Устья и приказали переселяться сюда всем из заимок, рассыпанных по необъятной тундре. Идея была понятна: приобщить людей к достижениям современной цивилизации, учить детей, снабжать централизованно товарами, наладить медицинскую помощь. Никто не думал о последствиях, к которым приведет такая ломка привычного, веками сложившегося уклада жизни.
Строились так, как привыкли, как умели. Помочь государство практически не могло – шла война. Техники не было никакой. Строительные материалы, как встарь, давала река. Начинаясь в тайге, полноводная Индигирка выносит в дельту свою множество стволов деревьев – их называют здесь плавником. Течением стволы прибивает к берегам. Тяжелые мокрые бревна надо было вытащить из воды, поднять на крутой берег, потом их составляли в своеобразные пирамиды-конусы, напоминающие очертаниями летнее якутское строение – урасу – для просушки. Так же здесь всегда хранили дрова – чтобы не заметало зимой снегом. Некоторые дома рубились, как в русских деревнях, некоторые строились на здешний манер: стены складывались из бревен, поставленных вертикально, и обмазывались глиной. Крыши во всех домах делали плоскими, обкладывали дерном. Из-за этого дома имели какой-то неуютный, недостроенный вид, напоминая собой большую коробку или ящик.
В конце 60-х годов я застала поселок именно таким – «настоящих» домов, со скатной крышей, было всего два: фельдшерский пункт и магазин, оба здания общественные, нежилые. Даже школа была с плоской крышей, в ней было два – или три? – не больше – маленьких класса с кривыми подслеповатыми оконцами. Воздух казался видимым – до того он был сер от застоявшегося холода и дымного печного духа. В домах этих шло непрекращающееся, изнурительное сражение с холодом, бесконечное кормление ненасытной железной печки.
Печка из круглой железной бочки из-под горючего – это был первый подарок Северу от цивилизации: до появления бочек все дома отапливались камельками. Зимой – то есть с конца августа по июль – печки топятся практически непрерывно. По нескольку раз в день приходится хозяйке выскакивать из домика «колупать», то есть рубить дрова. Орудовать топором здесь умеют все – и дети, и глубокие старухи.
Комната в домишке была одна, иногда с перегородкой, не доходящей до потолка: топить две печки – непозволительная роскошь. Малышей, как собачек, привязывали длинной веревкой к спинкам кроватей, чтобы не могли, играя, дотянуться до вишнево раскаленной, гудящей в углу печки. Так исстари заведено. Русскоустьинцы всегда посмеиваются: «Все мы на веревке выросли».
Помню большую белую печь – кирпичную, побеленную, единственную «настоящую» печь на весь поселок. Как было уютно, вбежав с адского мороза, прижаться к ней щекой, плечом, распластаться руками по теплым ее бокам. Стояла эта печь в ФАПе – фельдшерско-акушерском пункте, куда меня определили на постой. Когда меня привели, фельдшерица, приезжая, сказала, глядя куда-то поверх моей головы, словно читая какой-то ей одной видимый график: «Кате рожать в марте, Дусе в июне. Все равно будем еще все мыть с хлоркой. Помещу-ка я тебя пока в родилку».
В довольно большой и по случаю отсутствия рожениц едва натопленной комнате находилась, кроме того, чему положено находиться в родилке, обычная кровать – для матери, и маленькая – для новорожденного. Детская была явно не фабричного производства, сквозь грубую коричневую покраску угадывалось, что сработана она топором,
Помню первую ночь – бессонную – в этой комнате. Когда замолк в 12 часов ночи движок, черная, вязкая, как деготь, тьма затопила все вокруг. Весь внешний мир – зримый – исчез, от него остались только звуки. Выл ветер. Где-то далеко изредка взлаивали собаки. За стеной что-то шуршало, словно наждаком водили, я не сразу догадалась, что это ветер пошвыривал о стену сухой жесткой поземкой. В прихожей, отмеряя минуты, срывались с рукомойника и падали в таз тяжелые, будто ртутные, капли. Не верилось, что в нескольких шагах от ФАПа этот дикий, свободно несущийся над пустынной тундрой ветер, перебирает над маленькой почтой обросшие снежным мхом струны антенн и треплет на дверях клуба афишку, обещающую фильм «Тени над Нотр-Дам».
Две недели назад в этой комнате умерла родами женщина. Рожала она четвертого ребенка, ничто не внушало никаких опасений. А роды вдруг случились очень тяжелыми. Была ужасающая пурга, и вертолет, вызванный из Чокурдаха, никак не мог вылететь. А когда он все-таки прорвался, было уж поздно.
Фельдшерица проговорилась, а потом все повторяла, заглядывая мне в лицо: «0х, зря я сказала, бояться теперь будешь».
Нет, это был не тот страх, который имела в виду фельдшерица. Лежа без сна в кромешной тьме, я испытала в ту ночь такое чувство отъединенности от привычного мира, такое одиночество, будто я, как в каком-то фантастическом фильме, выпала из своего времени.
Пробыла я тогда в поселке недолго, не больше недели. Начала портиться погода. Стал крепчать ветер, заструилась, переливаясь через заструги, скручиваясь в тугие жгуты, поземка. Небо еще голубело где-то там, в вышине, но горизонт начало заволакивать белой мглой – поземка завивалась все круче, выше. Затихли, залегли собаки, свернувшись клубком, пряча носы под теплый хвост.
За мной прибежали с почты – звонили из Чохурдаха, велели собираться, из Чокурдаха вышел рейс Индигирторга, может быть, последний на много дней: получено пурговое предупреждение.
Шли годы. Давно уже я вернулась из Якутии в Москву. Писала, ездила по стране, встречалась с самыми разными людьми. Полярный ничем не напоминал о себе. Никогда нигде, ни в одной газете – ни строчки. Ни одного человека, побывавшего в тех краях. Он, словно и вправду погрузился в тундровые снега. Иногда думалось – а был ли он на самом деле? Или пригрезилось? Но порой вдруг где-нибудь на гребне могучей плотины или посреди гигантского цеха – только прикроешь глаза – возникали, как видение, легкие нарты, пробирающиеся где-то там, самым краешком земли в белой снежной круговерти, собаки, налегающие на постромки, человек в заиндевелой кухлянке.