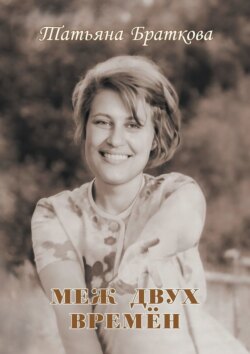Читать книгу Меж двух времён - Татьяна Браткова - Страница 8
РУССКОЕ УСТЬЕ
Между прошлым и будущим
ОглавлениеЗнакомые вечно недоумевают, когда я в очередной раз начинаю укладывать рюкзак: «Что тебя туда тянет?»
В самом деле – что, кроме, конечно, дикой, несказанной красоты тундры?
Пожалуй, нигде не встречала я места, где бы так, как в Русском Устье, сойдясь вплотную, глядели друг другу в лицо настоящее и прошлое.
Когда «Бодист» в третьем часу ночи приткнулся, наконец, к берегу, первое, что я увидела, был старый домик Чикачевых, стоящий почти на острове – со всех сторон подступила к нему вода. Однако, уцелел, держался еще. Из низеньких дверей выскочил незнакомый парнишка, за ним – девушка в городском клетчатом пальто, а за ними и Михаил Иванович – по-домашнему, в тапочках. Парнишка схватился за мою поклажу, девушка церемонно протянула руку: «Лена». Дядя Миша радостно приседал, хрипловато хохоча и ударяя себя по коленкам: «Приехала, милая ты моя, приехала. А мы все на дачке живем, дожди были – страсть, земля-то пораскисла, водовозка до домов дойти не может, а через весь поселок не натаскаешься».
– Воды много надо, – вздохнула Леночка, – вот у нас… Она откинула полог на кровати. Уткнувшись носом в подушку, посапывало полугодовалое существо, зажав в кулачке резинового зайца. Ленка привезла из Магадана не только диплом.
– А это Славик дяди Мишин, из армии вернулся, – упредила Ленка мой вопрос, кивая на парнишку. – Охотник? Нет, что вы, он связист по специальности, на почте работает.
Я поняла, что о муже спрашивать не надо. Здесь от века радовались любому ребенку, а прижитому «на стороне» – особенно. Для маленького поселка, где почти все состоят друг с другом в разной степени родства, «вливание свежей крови» было благом. Отсюда вообще совершенно спокойное, лишенное всякого ханжества отношение к детям, рожденным вне брака. Для них существовало даже специальное название – девьи дети. В прежние времена девушка, имеющая пару девьих мальчишек, считалась завидной невестой – чуть подрастут, и уже готовы помощники. А там и свои народятся – семьи здесь всегда были традиционно многодетными. Ленка и сама девья – Матрена замужем никогда не была. А Ленка через несколько лет выйдет замуж за прекрасного парня, по профессии механизатора, и привезет его в поселок. И я буду привычно подгадывать дела так, чтобы в конце августа быть в Москве: Леночка с мужем и тремя детьми остановятся обязательно у меня по дороге с юга – домой, куда надо попасть непременно до первого сентября, потому что Елена Николаевна – директор поселковой школы.
Но это все еще будет. А пока Ленка идет впереди меня, ловко преодолевая по мосточкам тянущиеся от домов трубы отопления. Подрагивают на клетчатом модном пальто тугие тяжелые темно-каштановые локоны. Постукивают каблучки по дощатому настилу. Напевает.
И не твоя вина,
Что ты была прекрасна…
– Леночка, чья музыка? – спрашиваю я.
– Евгения Мартынова, – небрежно бросает она через плечо. – Вообще очень люблю весь этот цикл Дементьева. А Вы? Вот это… «Ланская? Почему Ланская? Я Натали цветы принес…»
– Литературу преподавать будешь?
– Литературу? – удивляется она. – Нет, физику.
И поднимаясь на крыльцо нового дома, говорит: «Вам, конечно, тут спокойнее будет. Дениска, правда, не капризный, но все-таки… – И помолчав, добавляет: – И книги здесь. А воды вам что одной – пару ведер».
В этот мой приезд я ощущаю себя в поселке совсем иначе. И раньше жители все были гостеприимны и доброжелательны, но относились к моим расспросам не то чтобы скептически, но как бы с сомнением: где Индигирка, где Москва, может ли быть, чтоб там и впрямь заинтересовались проблемами их житья-бытья. Да и я – «тамошняя», из другой жизни…
Я напечатала в «Литературной газете» очерк и с трепетом ждала вестей из поселка. Первым откликнулся, конечно же, Михаил Иванович: «Читали твою статью в клубе, как раз охотники съехались на Новый год, народ сказал – все правильно!»
В первое утро иду по поселку, и от каждого дома то хозяин, распрямившись с топором в руке, то хозяйка, оторвавшись от рыбы, которую она чистит для засолки, кричат мне: «С приездом, Васильевна!» Зовут в дом, угощают юколой, приглашают вечером «на строганинку», делятся новостями.
– С банькой беда, банька-то совсем обвалилась, по весне под воду ушла.
– А у Варякиных третья девчонка родилась, Иван смеется, будем, говорит, стараться – до охотника.
– Сезон хороший был, песца богато, а рыбка нынче омалилась, только кормимся.
Спасибо тебе, жизнь, за это утро…
За окном «моей» комнаты – новый четырехквартирный дом. Каждый вечер предлагает мне удивительное зрелище: с одной стороны дома на небе – пурпурные полосы заката, а с другой – небо нежно золотится восходом. Солнце как раз за домом как бы на минуту «приседает» за горизонт, чтобы тут же выскочить обратно. Пик полярного дня уже миновал.
Недавно ушли от меня гости – приходили бабушки чайку попить. Тетя Огра. Тетя Дука. Тетя Фрося. Женщины вообще-то здесь стареют рано – к пятидесяти глядятся бабушками. Но это настоящие старушки, им всем далеко за семьдесят. Довольны, что мне интересно про «досельную» жизнь: «Молодые-от и не слушают, им не надо».
– Чай хороший, – хвалят вежливо. – Как называцца-то? А, индийский! Знам, знам, молодые называют так – «со слоном». Дука, а помнишь в раньшие времена тоже в фактории привозной был, вот как тут слон, – там рука была. Яво так и звали – «с рукой».
– Юколка хороша, не пересушена. Матрона, небось, стряпала, Она хозяйка. И пирожки, небось, не Ленка пекла. Молодые – им куда, они энти… сосиски любят, хлопотать не надо.
– А правда, что раньше рыбу любили… ну… не совсем свежую, – осторожно спрашиваю я.
– Ка-ак же, кислую ели, кислую. Хозяин, бывало, говорит: «Огра, скисли-ка рыбки». Заверну в травку, положу в тепло. Подкислится, тогда жарю. Хвалит. Совсем, говорит, другой аппетит. Теперешние не едят, нет. Таперича свежую давай.
– Дак и лопоть-то нынче кака… Сноха-то исподнее снимат, а оно трешшит, искра во все стороны – страсть! А она смеется, бает этто – как ее – синтетика.
– Фрося, а ты помнишь платье у мене было шепеткое, из бурса. Бурс-от? Дак шелк, голубой был, розовый, зеленый. Переливался он, да, помнишь, как?
– И шуршил, – вздыхает Фрося, – Дорогой был…
– Дорогой, – согласно кивают остальные, – дороже не было.
– А еще энто, как яво, – верверет, черный – гладкий был и рубчиковатый.
– Еще загадка такая есть: «На трубе стоит монах в верверетовых штанах». Ну, Васильевна, догадай – кто?
Я, смеясь, поднимаю руки – сдаюсь.
– А энто, чтоб снег в трубу не попадал, ставили такой домичек, ну, он коптился, конечно, как в верверете стоял.
– А вот еще – про дом: «Попадья в избе, рукава на дворе». И не гадай, не догадаешь, то матица потолочная, концы на улицу выступают.
Начинают вспоминать загадки, перебивая друг друга, кричат отгадки, радуясь, что помнят.
– На туше уши, а на голове – ниту…
– Дак самовар то, самовар!
– А энто? Под одной крышей четыре попа?
– Стол!
– Без гвоздя, без топора мост мостицца?
– Лед да реке! – азартно врубаюсь я, и все довольны: угадала.
Хлопнула дверь – пришла хозяйка, Матрена Михаиловна: «И я в гости!»
Ее встречают веселым шумом: «Садись, Матрона, Васильевна на хозяйстве».
– Покуру, на даче нельзя – дите. Матрена достает папиросы, она страстная курильщица, как многие женщины здесь. – Про что баете?
– Дак вот вспоминам, что ели, да что носили.
– А ровдугу, – говорит Матрена, поводя чернющими глазами. У нее явно присутствует якутская кровь, но глаза не раскосые – большие, лицо смуглое, а волосы – как вороново крыло. Вообще-то она, пожалуй, больше даже похожа на цыганку.
– Ровдугу забыли! – дружно шумят бабушки. – Бурс-то и верверет привозные, а ровдугу сами делали, из оленьей шкуры, плеки шили – обувь летнюю, и рубашки. Таперича в магазин тоже везут – жамша называцца.
– Замшу? Сами делали? Расскажите!
– Моня, расскажи! У ей мать умелица была. Лучшая ровдуга – у ей. Да и сама может…
– Ну чего рассказывать, – смущается Матрена. – Трудное дело, да долгое. Шкуру ту и мочат, и скребут – до родной кожи. А потом мазанкой из рыбной печени мажут, потом мнут долго, а потом посушат и опять начинают скоблить – кидеранить по-нашему.
– У меня кидеран сохранился, где-то ляжит, – встревает тетя Фрося. – Такой, с зубьями.
– Ну да, зубчиками-то скребешь, они кожу проминают. Молодой олень – хорошо, а старый бык попадется – все руки оторвешь, плохо подчиняется. Когда вымнешь, начинаешь ее тогда дымить глинтиной – гнилое дерево так по-нашему будет. Когда выдымится, мама, помню, ее скорее снимет, завернет и на нее сядет – так дым, говорит, лучше сляживается.
Матрена закуривает погасшую папиросу, глаза ее вспыхивают озорно.
– А потом девочки из ровдуги от своих кратче ночью перчанки шьют, мальчикам дарят. Это был такой знак. Потом, может он чего подарит, и будут они жених и невеста.
Бабушки загрустили, каждой, наверное, вспомнились свои «перчанки». Все они уже давно вдовы.
Без стука заполошенно ворвалась многодетная соседка.
– Ой, Матрона, хорошо ты тутотки. У Мишеньки, знаю, бинокль есть, дети в тундре ходят, посмотреть – где, спать пора уж…
– Засиделись мы, – засобирались, закланялись бабушки, – И то – солнце светит, а ночь – за весь век не привыкнешь…
Иду по тундре – рву цветы. Маленькие, скромные разноцветные венчики. Они не кланяются размеренно и медленно, как наши цветы на длинных тонких стеблях, а мелко дрожат под ветром на своих коротких тоненьких ножках.
Иду на кладбище – поклониться могилке Прокопия Семеновича Варякина. Кладу букетик у подножия деревянного – как все здесь – памятника: две досчатые плиты – одна на другой, ступенькой, сверху – пирамидка. Принятая здесь форма надгробия – голбас.
Стою, вспоминаю голос Прокопия Семеновича: «Эх, милая, это тебе тундра чужа, да страшна, а мне – дом». Лицо старого охотника – редкую бородку, улыбающиеся, хитровато прищуренные глаза, голову, седую странно – не целиком, не прядями, а как бы через волос.
И вдруг понимаю – ведь там, под эти странным надгробием лежит не то, что осталось от бренного его тела, а лежит он сам – такой, каким опустили его много лет назад в могилу. Потому что не в земле покоится он, а во льду, который не оттаивает никогда.
Обычай хоронить «в землю» – наверное, единственное, принесенное пращурами нынешних русскоустьинцев из «тамошней» жизни, что вошло в противоречие со здешней природой. Тундровые коренные народы, во всяком случае, до принятия ими христианства, никогда не закапывали своих покойников. Их подвешивали, завернув в шкуры, высоко над землей – чтоб не достал зверь, и ветер, воздух, солнце делали свое дело. Есть что-то нечеловеческое (или не Божье?) в том, что умершие люди десятилетиями лежат, как в огромном холодильнике, в мерзлоте, сохраняя свой земной облик, – отцы, деды, прадеды нынешних обитателей Русского Устья. К счастью, они об этом не задумываются. Впрочем… Говорят, жену Прокопия Семеновича несколько раз насильно приводили с кладбища. А потом тихая, работящая Матрена Ивановна, не бравшая в рот спиртного, горько запила…
Я бреду медленно к поселку, и в душе моей во всей своей грозной силе и величии звучат слова, ставшие для большинства из нас простым географическим понятием – в е ч н а я мерзлота.
Рано утром вижу из окна старинную мою знакомую – Екатерину Николаевну Портнягину родную сестру тети Огры. Семья Портнягиных одна из немногих, совсем не подвергшихся вторжению нерусской крови ближайших соседей своих – якутов и юкагиров. У обеих старых сестер – совсем русские лица с пронзительно голубыми глазами. Сын Екатерины Николаевны Серафим тоже светлоглаз и светловолос, у него узкий, совсем нездешний хрящеватый нос с горбинкой, как у матери. А жена Верочка – якутка, и внуки у Екатерины Николаевны получились черноголовенькие, с быстрыми узенькими глазками.
Дети младшего сына Николая в портнягинскую породу, особенно Оленька. Так и просится на ее русую головку венок из васильков, которых Оленька никогда не видела.
Не минула этой семьи страшная беда, которая подстерегает здесь всех. Почти каждый год берет коварная ледяная Индигирка человеческие жертвы. Привыкшие постоянно быть на воде, мужчины порой теряют осторожность в обращении с лодкой, с мотором. Николай неправильно переключил скорость, лодка резко рванулась вперед и он, потеряв равновесие, упал в воду. В наших широтах – это неприятное происшествие, не более, здесь – верная гибель. И не только потому, что никто не умеет плавать. Температура воды в Индигирке никогда не поднимается выше 1—2 градусов.
Два дня искали тело Николая на лодках вдоль берегов и нашли бы, наверное. Индигирка через несколько дней выбрасывает на берег тела своих жертв, но была поздняя осень, по реке уже шло сало, и на третий день она стала.
Говорят, в конце мая, когда начался ледоход, часами простаивала тетя Катя на берегу, глядя, как ломаются, громоздятся друг на друга льдины. Что творилось в ее материнском сердце? Ведь где-то, впаянное в такую же ледяную глыбу, неслось, как в вечность, в безбрежный простор Ледовитого океана, тело ее сына. Самого младшего, самого любимого…
Что встает перед ее глазами, когда она, сидя за столом, склонившись над какой-нибудь работой, уйдя в себя и забывшись, вдруг почти зайдется в полувздохе-полустоне. И сердце сожмется: что скажешь, чем поможешь? Кинешься – невпопад: «Тетя Катя, вам нужно что-нибудь?» А она только смахнет слезинку согнутым корявым пальцем: «Э-эх, девка, ничего мне не нужно с той поры, как Николай погил. Я уж как-нибудь… Только бы уж у них все хорошо было. Хоть бы у них…» – твердит она, как заклинание, и гладит, гладит приникшие к ее коленям две черненькие головки. И не знает она, и никто не знает, что над одной из них судьба уже занесла свой меч. И когда я в Москве зимой прочла в очередном письме из Русского Устья, что младшая, трехлетняя Альбинка, погибла, обварившись кипятком, я, в ужасе схватившись за голову, подумала в первый момент не о бедных родителях и даже не о несчастной Альбинке. Тетя Катя! Снова услышала я ее тяжкий полувздох-полустон, и меня морозом окатило: нужно было судьбе заставить ее пережить еще и это!
Но сейчас еще июль. Серафим с женой и детьми уехали в отпуск, в Олекминск, к Верочкиной родне, а тетя Катя прилетела из Чокурдаха, от старшей дочери, «досмотреть собачек».
Каждый день выходит она из нового дома, где семья сына живет в отдельной двухкомнатной квартире, и опираясь на палку, бредет через весь поселок к старому, уже брошенному дому, где прожила она всю свою долгую жизнь. Индигирка подобралась уже вплотную – дом совсем завис над обрывом, хорошо, что дверь – со стороны поселка, и в дом еще можно зайти.
Здесь тетя Катя варит на старой железной печке рыбу для собак, кормит привязанную здесь упряжку: «Собачки дак привыкли тут, и пошто в доме рыбой вонять, рыбка-то, она во-онькая!»
Я догоняю тетю Катю у самого дома,
– Заходь, заходь, – кивает она, толкая низенькую дверку, – да не пужайся.
Я вхожу, согнувшись, а выпрямившись, невольно делаю шаг назад: на месте правого угла зияет дыра, в которую видны свинцовые воды Индигирки.
Тетя Катя садится на лавку, разматывает серый клетчатый платок.
– Кончацца дом-то, кончацца, – протяжно говорит она. – Как дыра-то этта открылась – все, думаю, конец скоро. Вчера бы пришла. Вчера собрались мы с родниками, посидели, налили по махонькой. Помянули всех. В печку маленько плеснули – огонек покормили, поклонилася я печке – спасибо, печка-матушка, скоко лет ты грела-кормила. Я и Серафиму сказывала, как уезжал: поди, Сима, поклонись дому, вернешься, может уж и не застанешь.
– Отчей дом, – вздыхает она, окидывая взглядом покореженные оползнем стены, низкие оконца с треснувшими стеклами. В доме уже пусто, все, что представляет какую-то ценность, давно унесли. Остались лавки да покосившийся старый стол, сделанный еще руками хозяина. Там, в новой квартире, все другое: беленькая нарядная кухня, полированный шкаф, тахта, ковер…
Тетя Катя сидит, покачиваясь, на лавке, обводя глазами стены, которым суждено вот-вот уйти на дно реки. Она видит то, чего не могу увидеть я: хозяина, сидящего во главе стола, детей своих – маленьких еще – по лавкам. Дусю, Симу… Николая. И себя – молодую, проворную, раскрасневшуюся от печного жара.
– Отчей дом! – протяжно повторяет она, и я знаю, что сделаю, когда вернусь в Москву. Я пойду в один старый переулок у Бульварного кольца и буду долго стоять возле большого серого дома, где прошли мои детство и юность, и смотреть на два высоких окна на втором этаже. И благодарить Бога, в которого я не верю, что дом этот будет стоять и тогда, когда меня уже не будет на свете.