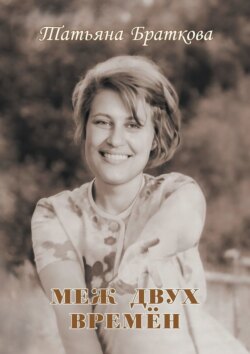Читать книгу Меж двух времён - Татьяна Браткова - Страница 6
РУССКОЕ УСТЬЕ
«Хочешь жить – терпишь…»
ОглавлениеПожалуй, конец семидесятых – начало восьмидесятых годов можно считать наиболее благополучными в жизни поселка. Шло строительство, обсуждался вопрос о возведении причала, в магазине висели на плечиках финские костюмы, при мне жители как-то устроили «выволочку» представителю торга за то, что редко возят «свежее» – овощи и фрукты. В начале 80-х в поселке появилось долгожданное телевидение.
Но именно в эти годы, когда так неузнаваемо изменился и поселок, и сама жизнь здесь, вдруг тревожно зазвучал вопрос: что будет с Полярным через 10—15 лет?
Дело в том, что Полярный, в сущности, поселок сугубо функциональный. Это поселение охотников за песцом, хотя из 265 его жителей в начале восьмидесятых годов кадровых охотников было всего 22 человека. Остальные, если не считать детей и пенсионеров, – это люди, охотников обслуживающие: работники дизельной станции и пекарни, почты и клуба, няни и воспитательницы яслей и детсада, учителя, фельдшер, библиотекарь, продавец.
Если представить себе, что завтра в поселке не станет охотников, работа большинства этих людей, что называется, замкнется на себя, существование поселка потеряет всякий смысл.
И вот к началу 80-х годов стало ясно, что охота стремительно «стареет», больше половины кадровых охотников составляли люди уже пенсионного или предпенсионного возраста. Молодое пополнение было ничтожным: молодежь не хотела «идти в охотники».
Для того чтобы понять причины этого, нужно представлять себе, что это за труд – труд тундрового охотника.
Когда-то и пресса, и телевидение «перекармливали» нас рассказами о «человеке труда». И пусть чаще всего это сопровождалось трескучими фразами о соцсоревновании и выполнении плана, мы – хотели этого или нет – получали представление о том, как льют сталь и укладывают бетон, как работает буровая установка и ткацкий станок. Читая сегодняшние газеты и глядя на экран, начинаешь забывать, что большинство людей по-прежнему работает в забоях и цехах, по-прежнему строит и пашет, а не бегает с пистолетами. Старшие еще помнят. Но подрастает поколение, рискующее никогда не узнать, как выглядит человек работающий. А десятки профессий для него будут лишь знак, пустой звук, не наполненный никаким содержанием.
Что же говорить о таком действительно редком труде, как труд охотника-песцелова. Но не поняв все трудности, опасности, а главное – всю несовременность этого труда, в котором ничего не изменилось не только за десятки, но и за сотни лет, не понять да конца проблем такого огромного региона России как Крайний Север. И тех, которые начали подниматься в полный рост 10—15 лет назад, и тех, которые встали перед Севером сегодня.
Сколько раз ни приходилось мне рассказывать о Русском Устье, об охотниках мне неизменно задавали вопрос: а как они песца стреляют? Могущество стереотипа: охотник – значит ружье. Но при охоте на песца ружьем не пользуются вовсе. Промышляют песца на севере с тех времен, когда у охотников ружей вовсе не было, «методика», если можно так выразиться, способ охоты сложились в «досельные» времена и никаким изменениям практически с тех пор не подвергались. Прежде их и не именовали охотниками, именовали промышленными людьми или просто промышленниками. И если посвятивший себя исследованию русских поселений на Крайнем Севере Якутии, научный сотрудник Якутского института проблем народов Севера, уроженец Русского Устья Алексей Гаврилович Чикачев пишет в своей книге: «Мой отец был промышленником», – это вовсе не значит, что отец его владел заводом или фабрикой. Он был профессиональным охотником-песцеловом. Потом они привыкли к тому, что их называли охотниками, сами говорят «охотучасток»» или «охотизбушка». Но редко услышишь, чтоб сказали «охотиться на песца». Песца промышляют или, как здесь говорят, упромысливают.
Конечно, ни один охотник не выйдет в тундру безоружным: тундра есть тундра, всякие могут в ней быть встречи. Хотя охотникам волки, например, не докучают, предпочитают крутиться вокруг оленьих стад.
Все угодья закреплены в постоянное пользование за определенным охотником. И охотничьи участки, и участки, где ловят рыбу – «пески», как их здесь называют, передаются, как правило, по наследству, так же, как сами орудия лова, так называемые пасти. Пасть стоит в тундре всегда. В нерабочем состоянии – это узкий трехстенный короб и лежащее сверху тяжелое двухметровое бревно. Но перед началом охотничьего сезона охотник объезжает «пастники» – места, где стоят ловушки, и «настораживает» пасти, приводит их в состояние «боевой готовности». «Настороженная» пасть издали напоминает пушку с поднятым стволом: бревно – гнеток или давок, как его здесь называют, приподнято с одного края и специальным образом закреплено. Изменилась за века разве что одна деталь – сторожевой волосок: раньше натягивался конский волос, говорят, иногда и женский, а теперь – леска. Все лето охотник разбрасывает у пастей приманку – прикармливает, «приваживает» песца. Зимой песец по привычке лезет в короб – за приманкой – резко пахнущей, выдержанной в ямах «кислой» рыбой, и задевает волосок. Бревно падает, убивая зверька своей тяжестью.
Когда-то пасть была единственным орудием лова. Позже появились капканы. Поставить капкан, конечно, намного проще, пришлые «браконьерят», конечно, с капканами. Но охотники всегда предпочитали пользоваться пастями, хотя мороки с ними немало, и сооружают, и ежегодно ремонтируют они пасти летом, доставляя необходимые для этого бревна и доски на лодках. Прежде пользовались и лошадьми, но теперь лошадей нет, а получить для этих целей в совхозе трактор или вездеход всегда было проблемой – вечно не хватало или самих тракторов, или горючего, да и гонять трактор по тундре, особенно на отдаленные участки, даже при тогдашних ценах на горючее, получалось весьма накладно. Может, теперь и с облегчением вспоминают, что обходились без трактора. Страшно подумать, во что превратилась бы тундра, если бы тракторов и вездеходов было бы в достатке, и сновали бы они все летнее время по участкам: ведь след от единожды прошедшего по тундре трактора «не заживает» 20—25 лет.
И хоть считается охота занятием сезонным, летом охотник занят ничуть не меньше. И все же предпочитает возиться с пастями, чем пользоваться «железом». Объясняют они свою нелюбовь к капканам тем, что зверек, попавший в него, долго бьется, шкурка портится от бескормицы – ведь охотник, поставив капкан, возвращается к нему через много дней. Мне показалось, что охотникам еще, что называется, претит необходимость приносить страдания зверьку, что неизбежно, если жертва попадает в капкан. Пасть убивает сразу. Конечно, занятие охотой не располагает к сантиментам, но склонности к жестокости я у людей этой профессии никогда не встречала. Возможно, есть в этой привязанности к традиционному «оборудованию» некая доля обыкновенного консерватизма. Так или иначе, но на участке каждого охотника пастей обычно 250—300, а капканов – несколько десятков, да и то поближе к зимовью, куда можно наведываться почаще.
Рано утром, так и тянет написать на рассвете, но рассвета никакого нет, потому что половину охотничьего сезона стоит ночь, а в остальное время светает поздно и ненадолго, охотник выезжает на собачьей упряжке из своего зимовья в тундру. В Русском Устье ее называют необычным словом – сендуха. Сендуха – это не просто тундра, это название как бы вмещает в себя весь окружающий природный мир.
Целый день едет он по определенному маршруту – путику, проверяя пасти. Легко сказать – по маршруту! Какой маршрут может быть в голой, ровной тундре? Любой из нас мигом заблудился бы в этой белой бесконечности, как только скрылось бы с глаз зимовье. Однако охотник прекрасно ориентируется в этом пустынном пространстве, хотя никто традиционно не пользуется компасом. На вопрос – почему? – только пожмут плачами: не принято. Ориентируются, как говаривал Прокопий Семенович Варякин, первым посвятивший меня во все премудрости охотничьего промысла, «наощупь ума»: по звездам, по снегу, по ветру. Звезд здесь на небе, наверное, раз в десять больше, чем у нас в густонаселенной средней полосе: воздух необычайно чист и прозрачен, ведь тундра ни зимой ни летом не знает, что такое пыль.
Помню, в самый первый мой приезд в Полярный, вышли мы как-то с Прокопием Семеновичем из его домика. Дверь в том домике была низенькая, выходить надо было согнувшись, и именно поэтому, может быть, как только вынырнули мы наружу и распрямились, сразу несказанной красотой обвалилось на нас ночное небо, усыпанное звездами и видное необычно широко – от горизонта до горизонта. И не надо было закидывать голову, чтобы смотреть на звезды – огромные, неподвижные, словно прибитые к черному своду, они были везде – не только над головой, но и впереди, и сбоку, и сзади, И прямо над нами, словно главный, центральный гвоздь – Полярная звезда, словно на ней и держалось все это великолепие. Может быть, это ощущение и породило имя, которым зовут ее здесь: Кол-звезда. А чуть в стороне, в совершенно непривычном для нашего глаза изгибе, зачерпывал черное вино неба ковш Большой Медведицы. Вот по тысячам этих звезд, названий большинства которых они не знают, прекрасно угадывают охотники направление, по которому должна пролечь их невидимая дорога.
Впрочем, не так уж беспросветно темна тундра в этой беспредельной полярной ночи. Снег отражает и свет звезд, и ярким голубоватым светом заливает тундру луна. Как ни парадоксально, но в зимние месяцы в ясную погоду в ночную пору в тундре даже светлее, чем в дневные часы, Есть у полярного неба еще один небесный свет, неведомый жителям других широт – северное сияние. Те, кому посчастливилось увидеть это волшебное зрелище, никогда не забудут этого чуда.
Прозрачные складки гигантского занавеса, голубовато-серые, блестящие, как ртуть, льются откуда-то сверху. Они струятся, как тонкая ткань под легкими порывами ветра, невесомо и беззвучно, то, вспыхивая ярким, почти синим светом, словно выхваченные из черноты неба невидимыми прожекторами, то тускнея и делаясь серо-прозрачными, как дым.
Невероятно красивое и немного жуткое зрелище. Оттого, что пожар этот разливается по небу совершенно беззвучно, что необычно для нас, жителей средней полосы, привыкших к тому, что знакомая нам мятежная красота грозового неба сопровождается раскатами грома, шумом ветра, плеском дождя. А главным образом потому, что складки этого небесного занавеса, возносясь куда-то в запредельную высь, как бы разрезают купол неба, открывая взору такую бездонную космическую глубину, что начинает кружиться голова и слабеют ноги, как у человека, подошедшего к краю пропасти.
Но и сияние, и звезды, и луна – это когда ясная морозная погода. Впрочем, это мы говорим погода и про ясный день и про дождливый. Здесь – «упала погода» – это значит ни земли, ни неба, ветер несет жесткую поземку, в нескольких метрах ничего не видно. Но и в этой снежной круговерти охотник найдет не только зимовье, но и выедет точно к каждой пасти.
Он сидит на нартах боком, свесив правую ногу и пробуя ею заструги. Любой охотник всегда скажет, откуда дул ветер при последней пурге, как заструги ложились. На ходу он безошибочно определит, как идет упряжка – встречь заструг, к примеру, или под углом. А если свежая пурга замела-заровняла все? Тоже есть способ: разрой снег, посмотри, как лежит трава, куда наклонились маленькие веточки тальника. Каждый охотник обязательно запомнит, откуда дул ветер, когда ложился первый снег. По десяткам примет умеет каждый предсказать погоду, особенно пургу. Эти навыки передаются из поколения в поколение и совершенно естественны для каждого родившегося и выросшего в тундре. Разговор о погоде здесь – вовсе не пустая светская беседа, а разговор жизненно важный.
Охотник объезжает свои ловушки с той же уверенностью, как если бы ехал по проложенной дороге, и к вечеру добирается до первого промежуточного зимовья – поварни. Это маленький, как конурка, домик, где есть только печь, сделанная, как и все печи здесь, из железной бочки, и лежанка для спанья. Домики эти всегда стоят так, чтобы летом к ним можно было подойти водой: завезти дрова, рыбу для собак и для песцовой приманки на весь охотничий сезон.
Здесь охотник обметает от снежного куржака стены и низенький потолок, растапливает печь, ставит на нее старый закопченный чайник, набив его снегом. Чайник, правда, часто возят с собой, в нартах: на все поварни не напасешься. На этой же печке он размораживает хлеб, строгает себе припасенную в специальном леднике с лета рыбу. Как правило, ничего другого за эти дни он не ест. Собаки тоже получают по мерзлой рыбине. Варить еду и себе, и собакам охотник будет лишь в основном зимовье. А в поварне он лишь проведет ночь и наутро отправится дальше. Поварни отстоят друг от друга на расстоянии дня хода на собаках – рабочего дня, с учетом проверки всех ловушек. Промежуточных зимовий бывает обычно пять – шесть, и зависимости от размеров участка. Последний бросок выводит уже к основному зимовью. Здесь охотник отдыхает, обдирает добытых песцов, откармливает собак. И опять выходит в «маршрут». И так пять месяцев в году – с середины ноября до первых чисел апреля.
Условия жизни на Крайнем Севере вообще чрезвычайно трудны, но все эти трудности меркнут по сравнению с жизнью охотника, который практически остаётся с тундрой один на один, что называется, выходит на нее с голыми руками, на защищенный, не «подпертый» никакими достижениями современной цивилизации – точно так, как выходили его предки и сто, и двести лет назад.
Возможно, приезжий человек и смог бы научиться ездить на упряжке, управляться с пастью. Но не дано ему почувствовать тундру своим родным домом, не бояться ее, слиться с ней, ощущать себя свободно и уверенно в грозной ее пустынности. И нужен, наверное, еще особый психический склад, тоже формировавшийся здесь из поколения в поколение и позволяющий спокойно выносить столь долгое одиночество. Когда кругом – ничего, кроме снега, льда и безжизненной белизны. И только лай твоих собак разрывает первозданную тишину. И эти клубки разноцветной шерсти – единственное живое тепло на десятки километров вокруг. Старые охотники могли оставаться в тундре месяцами, и никто из них не считал свою работу опасной. Впрочем, нет, одну опасность признают даже они. Это сорвавшаяся внезапно пурга и застигшая вдалеке от зимовья…
Как представить себе силу пургового ветра? Я попала в настоящую пургу один раз – под Тикси, на научной станции геофизиков. Когда от дома до дома можно было пробиться сквозь стену ветра и снега только держась за леера – специально натянутые веревки. Ветер валит с ног. Снег забивает глаза, нос, рот. Дыхание останавливается, легкие, кажется, разрываются от воздуха, а ветер заталкивает в рот, в нос упругий ледяной поток и нет сил сделать выдох. Слушая, как, сотрясая стекла, визжит на разные голоса вьюга, нельзя было не поразиться лишний раз точности пушкинской фразы: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным».
Конечно, каждый охотник умеет пережидать пургу даже в открытой тундре. Ставит вертикально нарты, зарывается в снег с подветренной стороны, обкладывая себя со всех сторон собаками. Тяжело выдержать даже несколько часов. А пурга здесь не бывает несколько часов. Она длится сутками. Несколько дней без тепла, без еды, без движения. Практически без сна. «Конечно, спишь немножко, – как говорил Прокопий Семенович, – но не душой спишь. Заснешь крепко – беда!» Если не подниматься время от времени из-под растущего сугроба, не разгребать наметенный снег, пурга за насколько часов может так утрамбовать его, что и вовсе не пробьешься наружу. Конечно, обмораживаются. Простуживаются. Но случаев, чтоб насмерть замерзли, – нет, не знаю. Вообще попасть в пургу – настолько тяжелое испытание, что охотники, которым почти всем довелось через него пройти, очень неохотно об этом рассказывают и на все расспросы отвечают примерно одинаково: «Хочешь жить – терпишь».
Конечно, никакая самая теплая-претеплая одежда, известная нам, жителям средней полосы, для работы в тундре не годится. Практически все народы, проживающие за Полярным кругом, одеваются одинаково. И материал, из которого шьётся одежда, и «фасон» продиктованы условиями жизни – общими для всех.
Конечно, в городах и поселках одеваются не так, как на охотничьей тропе. Но и в самом Якутске на улице – шубы, шубы, шубы. Меховые шапки, надвинутые низко – до самых глаз. Искусственный мех или искусственная кожа не выдерживают здешних морозов, уже через несколько минут становятся жесткими, как кора, и ломаются. Помню, как живя в Якутске, еще в шестидесятых годах, я, не дождавшись автобуса и продрогнув до костей, резво рванула по улице, но пробежав пару кварталов, поняла, что замерзаю – не чувствовала уже ни рук, ни ног, ни лица: мороз был под 50. О, счастье! Клубы пара, заиндевевшая, покрытая, как белым мхом, куржаком дверь, – магазин! Я кинулась туда, в тепло и второпях ударилась о какой-то угол сумкой. Боже мой, не случись это со мной – ни за что бы не поверила: сумка разлетелась, разбилась, как чашка. Я с изумлением рассматривала какой-то жалкий мешочек – подкладку – с редкими пятнами уцелевшей псевдокожи. Публика сочувственно-насмешливо оглядывалась: ясно, приезжая…
Мех здесь не роскошь, а предмет первой необходимости. Тем более в тундре. Нет, не поймут здесь европейских борцов против одежды из натурального меха.,
А теперь я хочу предложить вашему воображению такую ситуацию: в тундре встречаются два охотника. Один из них – наш современник, а другой неким чудом попал сюда из XIX века. Нетрудно представитъ себе эмоции пахаря, идущего в лаптях за сохой и увидевшего на поле трактор. А вот охотники, встретясь в тундре, попросту не заметили бы, что их разделяет чуть не две сотни лет. Ничто не изменилось в экипировке охотника. Испокон веку одежду шьют из оленьего меха. Он самый теплый из всех мехов, потому что каждый волос – это трубочка, наполненная воздухом. Говорят, в спальном мешке – кукуле – из оленьих шкур мехом внутрь можно провести ночь даже под открытым небом. Под открытым небом – не скажу, не пробовала, а в чуме, где температура к утру опускается далеко за нулевую отметку, приходилось. Длинное ухо меховой шапки примерзло к стенке, а телу было тепло и уютно, как дома под одеялом. Олений мех имеет еще одно достоинство: он не намокает. Поэтому охотник со всех сторон «зашит» в олений мех. Брюки из оленьего меха. Оленья кухлянка. На голове олений малахай. Меховые рукавицы трогательно – как у детей – висят через шею на веревочке. Неосторожно оброненная варежка – это наверняка отмороженные пальцы. Варежки и мягкие сапоги – торбаза – из камуса: низкого меха, снятого с оленьих ног. Впрочем, такие торбаза носит вся Якутия. В универмаге в Якутске можно купить городской вариант – торбаза, украшенные поверху бархатной или суконной оторочкой с национальной вышивкой разноцветным бисером. В тундре вышивки, конечно, не увидишь. Но зато сапоги не до середины ноги, а до паха, пристегнутые специальными ремешками к поясу. И имеют они еще одно название – щеткари, потому что в отличие от городских, подшитых, как валенки, многослойным войлоком, имеют подошву тоже меховую, сшитую из оленьих щеток или пяток, щетиной наружу. Щетки – это густые волосы, которые растут у оленя между костяшками копыт. Подошва составляется, как мозаика, из маленьких кусочков. Щеткари выглядят очень забавно – из-под подошвы во все стороны торчат светлые жесткие усы. Такие подошвы совершенно не скользят ни по льду, ни по снегу.
В Москве я долго рассматривала две фотографии: одну, сделанную Зензиновым в Русском Устье в 191З году, и другую, сделанную мной там же почти восемьдесят лет спустя. По случайному совпадению, они были совершенно одинаковы композиционно и казались отпечатанными с одного и того же негатива. В тундре мода не меняется.
Так что внешне охотники из двух разных веков, встретившиеся в тундре, ничем отличаться друг от друга не будут. Разве что у нашего современника под рукавом традиционной кухлянки тикают часы со светящимся циферблатом, а в нартах лежит карабин.
Кстати, и нарты у них тоже будут одинаковыми. Мастерят их и сегодня сами, вручную, старинным способом, без единого гвоздя. Сколоченные нарты сразу бы разбило на твердых застругах. А нарты, связанные узенькими сыромятными ремешками, получаются подвижными и гибкими. Подтянул разболтавшийся ремешок – и нарты снова могут нестись по тундре, пружиня на застругах. «Ладить» нарты, особенно гнуть полозья, трудно и долго. Это целое искусство, которое передавалось по наследству от отца к сыну. Охота – занятие сугубо мужское. Это оленеводы кочевали всегда семьями. У жены охотника другая доля – ждать. Старые охотники посмеиваются: избаловались нынче бабы – в городе живут. И дело даже не только, вернее не столько в том, что жизнь в поселке качественно иная, чем в зимовье. Женщина оставалась в хлипком домишке среди тундры одна неделями, ожидая мужа, ушедшего «по пастям». Хуже того – не одна, с ребятишками. Случись что – помощи ждать неоткуда. Все возникающие проблемы – а мало ли их даже в наших благоустроенных квартирах – она должна была решать сама. От старой жительницы Русского Устья невозможно услышать – не могу, не умею, не справлюсь. Все могла. Все умела. Со всем справлялась сама. И со страхом – тоже. Правда, на расспросы мои, каково это – одной в темноте полярной ночи, при свете коптилки или свечи, в пургу – только посмеивались: «Мы привычные, а лихих людей в сендухе нет».
Необходимость самой принимать решения, привычка рассчитывать на себя, на свои силы выковала совершенно особый, очень независимый тип женщины. И определила ее социальное положение, ее статус. Женщины здесь никогда не были приниженны, робки, покорны.
Однако без мужчины семья прожить не могла: охотиться, ловить рыбу, то есть экономически обеспечивать семью мог только мужчина. Овдовев, женщина уходила «под крыло» какого-нибудь родственника-мужчины, который брал на себя обязанность «прихранить» вдову и ее детей.
Такая, например, история, услышанная мной в Русском Устье.
– Вышел мужик зачем-то из зимовья, нет его и нет. И шум какой-то, вроде кричит. Жена выглянула из дверей, а его медведь валяет. Она ружье схватила, да с первого раз не взяла. Он мужика кинул, на нее попер. Ну, со второго раза уложила. Мужика – в нарты и погнала на Яр, там уж бригада в то время была, по рации вызвали вертолет. Однако не довезли, помер мужик в вертолете-то, шибко медведь его порвал.
И на мой вопрос, можно ли познакомиться с отважной женщиной, одолевшей такого страшного зверя, как белый медведь, – только вздох: «Уехала она. Без охотника-то как прожить? Двое ребят малых. Она к дочке старшей в Якутск подалась».
Вот такое здесь старшее поколение. Нынешние молодые женщины редко умеют обращаться с ружьем, в зимовье ездят только летом – «на дачу». На вопрос о том, смогли бы остаться в тундре зимой, только головой трясут: «Одной в зимовье – да ни за что!»
Правда «юколку стряпать» умеют все, даже приезжая – Катя Варякина, учительница: куда денешься, жена охотника. Муж ее —Иван, сын Прокопия Семеновича Варякина.
Конечно, Катя обращается с ножом не так ловко, как местные. У них нож так и мелькает в руках, когда быстрыми точными движениями они мелко-мелко «шинкуют» распластанную рыбью тушку – только мякоть, кожа остаётся нетронутой. Потом ее вялят на солнце: приготовление «юколки» – дело летнее. Надо заготовить надолго – «до проку» – до будущего года. Подают юколку на стол обычно к чаю. Едят руками, отгрызая от шкурки тающие во рту жирненькие подсушенные ломтики. Совсем недавно бумажные салфетки сменили подававшиеся прежде для вытирания рук куски старой рыболовной сети с мелкими ячейками.
А вот обрабатывать шкурки Катя никогда не берется: боится порезать. Для этого нужна сноровка. Охотник Проня Портнягин, у которого участок сравнительно недалеко, привез в поселок неободранных песцов. Я напросилась посмотреть, как их обрабатывают.
Когда я пришла, Маша, Пронина жена, уже разложила на лавке пять или шесть белоснежных красавцев, роскошные хвосты свешиваются до пола. Безжизненно таращатся черные пуговки глаз. У двух пасти ощерены в последнем оскале, открывая острые мелкие зубы. Я забываю о роскошных шапках и воротниках и вижу просто несчастных мертвых зверьков. Мне их жалко. Проня надо мной подтрунивает, для него это – пушнина, шкурки. Все нормально – привычка.
Он выбирает самого крупного песца, подвешивает вниз головой за задние лапы. Берет острый охотничий нож. «Р-раз!» – одним взмахом распарывает лапы.
– Теперь глазки, – неуловимым движением самым кончиком ножа проходится вокруг глаз, – «ротик!» – подсекает шкуру где-то под пастью. Еще несколько точных подсечек, и Проня, взявшись за хвост, объявляет традиционно русское присловье, означающее начало любой работы: «Поехали!»
Из шикарного, почти в ладонь шириной хвоста, появляется какая-то тоненькая и безобразная веревочка. Боже мой, неужели это и есть хвост? Проня берется за шкурку двумя руками, изредка помогая ножом, начинает выворачивать ее, как перчатку. Бедный песец, через несколько минут от него остаётся маленькая жалкая тушка – кошка не кошка, кролик не кролик. А Маша уже устроилась прямо на полу и, держа перед собой шкурку, чистит ее, как строгает, удаляя подкожный жир точными, аккуратными движениями. Потом шкурки, так и вывороченные наизнанку, натягивают на специальные распялки и укладывают на градки- натянутые над печкой веревки – сушиться. Высохшие шкурки Маше предстоит много часов тереть мукой.
Теплый воздух, поднимаясь, чуть покачивает пушистые хвосты – единственное напоминание о том, что там, под страшноватым серо-розовым нутром – мездрой – царственной красоты мех.
Из Чокурдаха прилетел приемщик пушнины. Охотники потянулись в контору – сдавать шкурки. Пару раз за сезон – к Новому году и в начале марта, охотники, если позволяет погода, наезжают в поселок, даже из самых дальних зимовий: повидаться с семьей, вымыться, как следует, постирать бельишко, пополнить запасы продовольствия. Ну и отдохнуть, конечно, немного расслабиться, поговорить с людьми: ведь большинство из них неделями, а то и месяцами не слышат человеческого голоса. В домах целыми днями не убирают со стола, кипит с утра до глубокой ночи чайник, узенькую тропиночку до магазина растоптали до широкой дороги – на маршруте, в поварне ни один уважающий себя охотник пить не станет, вернувшись в зимовье, может слегка «для сугрева». Одиночество дисциплинирует: переберешь – недалеко и до беды, и замерзнуть можно или, чего доброго, зимовье спалить. Пожар здесь – самая страшная беда, потому что заливать огонь нечем: воды нет, есть только снег и лед. Поэтому «позволяют себе» только на отдыхе, в поселке.
В конторе, где расположился сборщик пушнины, что-то вроде клуба: сдав шкурки, мало кто уходит сразу.
Откровенно рассматривать чужую добычу или чужой улов считается дурным тоном. Но ревниво косятся на колченогий письменный стол, на который перед приемщиком выкладывают шкурки.
Тот неторопливо берет их по одной, встряхивает, поворачивает так и эдак, дует на мех, внимательно вглядываясь в подшерсток.
– Первым сортом. Первым. Первым…
Но вот у очередного песца под белоснежной остью мех чуть сероват у самого основания – «не доспел» песец, не долинял, не успел «дойти», рано угодил в ловушку.
– Этот вторым. А у этого кровь вот здесь. Капканный, небось? А песец хорош. Пусть хозяйка еще потрет. Завтра приноси – ототрет, приму первым.
Расчет будет потом, сразу за всю добычу, в конце охотничьего сезона.
День еще короток, смеркается рано, но свет пока не дали. В конторе уже темновато, только голубоватый свет вечерней тундры льется в заиндевелое понизу окно. И кажется, будто из угла, где на подстеленном куске брезента горой свалены шкурки, тоже исходит белый мерцающий свет.
Приемщик вместе с кем-то из помогающих ему охотников увязывает это сверкающее великолепие в далекий от свежести брезент, утягивает узел крест-накрест, словно хозяйка белье, чтобы нести в прачечную. Только содержимое такого узла многие годы отправлялось на Международный пушной аукцион, где страна наша выручала немалую валюту за сверкающий тундровой белизной мех. Продавать сами кому бы то ни было песцов охотники не имели права. Скупка и продажа этого меха была государственной монополией.
Вместе с охотниками я вышла на крыльцо и невольно подняла глаза к наливающемуся ночной чернотой небу, на котором начали уже проступать крупные тяжелые звезды. И среди них, посверкивая, словно подмигивая, пробиралась одна – маленькая, но очень яркая. Торопился своей небесной дорогой какой-то спутник,
– Бяжи-ит, – вздохнул кто-то за моей спиной. – Мож там и моя гаечка есть.