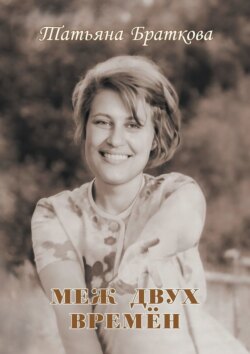Читать книгу Меж двух времён - Татьяна Браткова - Страница 7
РУССКОЕ УСТЬЕ
Чума и Фантомас
ОглавлениеЖена дизелиста Кеши Черемкина Светлана привезла из отпуска собачку. Маленького черного беспородного кобелька на кривоватых лапках, с задорным хвостиком-баранкой, палевым животиком и коричневыми бровками. Бровки эти кобелек умел презабавно поднимать, отчего острая мордочка его принимала невинно-удивленное выражение.
– Вы только посмотрите, какой симпатяга, – умилялась Светлана, демонстрируя соседям песика. Однако все, исключая разве ребятишек, отнеслись к Дружку с презрительным недоумением. С точки зрения любого охотника собачка была вовсе никчемная. Дом охранять? А чего его охранять-то, дверей здесь отроду никто не запирал. Да ее зимой и на улице-то оставить нельзя – замерзнет, шерсти-то, считай, на ней нет. Одно слово – «домашняя». Таких собак здесь и не водилось никогда. Известно, что собаки не для баловства, для тяжелой работы в тундре.
Индигирская остроухая лайка считалась лучшей в мире – недаром река имела еще одно старинное, «досельное» название – Собачья. А лучшие индигирские собаки были всегда в Русском Устье. Они действительно необыкновенно хороши – с крупными сильными лапами, мощной широкой грудью. Особенно красивы они зимой, когда обрастают густейшим подшерстком. Есть такие, что остаются лохматыми и летом. Их называют хохлы, они особенно хорошо переносят лютые здешние холода.
И вот среди этой собачьей элиты затесался Дружок – ласковый бездельник, умеющий только шевелить своими бровками и помахивать хвостиком-баранкой. Однако Светлана в нем души не чаяла. Охотники снисходительно посмеивались: чудит баба, пусть ее.
Шло время. И настал день, когда в поссовет пришел охотник с большой хозяйственной сумкой, в которой что-то шевелилось. Он вошел в кабинет председателя поссовета и вытряхнул из нее на пол перед изумленным Николаем Федоровичем Мельниковым клубок новорожденных щенят. Они расползались, оскальзываясь на линолеуме кривоватыми лапками и тычась бессмысленно во все стороны черными мордочками с одинаковыми рыженькими бровками.
– Это что ж такое? – задыхался охотник от возмущения. – Это ж моя лучшая сука! Передовик! Чистая порода! Я ж за нее такие деньги отдал!
Мельников не сразу понял, что произошло, а когда понял, чуть не свалился со стула от хохота. Сомнений быть не могло: Дружок, хотя почти и не подрос, превратился во взрослого пса.
Однако скоро Мельникову стало не до смеха. С такой же жалобой явился в поссовет второй охотник, потом третий.
Надо сказать, что скрещивают собак, тщательно отбирая пары «по статям». Кобелей-производителей – раз-два и обчелся. Упряжных собак кастрируют – некастрированная собака плохой работник. Так что соперников у Дружка, свободно шастающего по всему поселку, было немного. На очередное заседание поссовета вызвали Черемкиных и всех «пострадавших от Дружка» охотников. На повестке дня был один вопрос: что делать с собакой? Я видела своими глазами протокол этого заседания и его решение – в своем роде уникальное: обязать владельцев Дружка или кастрировать его или пристрелить. И как ни поднимал Дружок изумленно свои бровки, судьба его была решена.
Уже насколько лет он смирно лежит на крыльце, поджав свои кривенькие ножки под разжиревший палевый животик, приветливо машет всем своим хвостиком-баранкой и только изредка рычит, прижимая уши, – когда мимо проходит охотник, которому было поручено выполнить решение поссовета.
Дружок, что называется, еще легко отделался. Рассказывают, что до войны восточнее Тикси не могла проникнуть ни одна собака, даже весьма породистая, но не здешняя, не лайка: ее пристреливали без всякого снисхождения. Северяне блюли чистоту породы своих ездовых собак.
Еще в первый свой приезд на Индигирку я слышала от местных жителей рассказ о том, что в конце З0-х годов в Чокурдахе жил врач, приезжий из Ленинграда, который вместо ездовых собак использовал прирученных волков. Я, честно говоря, сочла это легендой. По старым поверьям, на волчьей упряжке ездит по тундре «сендушный» – леший. Однако в 78-ом году меня привели в недавно открывшийся в райцентре маленький, но очень интересный краеведческий музей. И там я увидела стенд, посвященный Сергею Павловичу Мокровскому, который в 1935—36 годах по своей собственной инициативе заготовил лес в районе села Мома, сплавил его вниз по Индигирке и с помощью местных жителей построил в крохотном тогда поселке Чокурдах первую больницу. Он трагически погиб здесь, в тундре, весной 1937 года, но его помнят и чтят, и нынешняя больница в Чокурдахе носит его имя.
На стенде в музее есть фотография Мокровского, сидящего на крыльце больницы в обнимку с огромными страшенными волчищами. Оказывается, это была не выдумка. Он действительно вырастил нескольких волчат и ездил к своим пациентам в тундру на волчьей упряжке, уверяя всех, что волки отлично приручаются, а в работе – гораздо сильнее и выносливее собак. Под фотографией надпись: погиб в тундре от случайного выстрела. Сколько я ни расспрашивала, подробностей его гибели мне узнать не удалось. Помню безумную мысль, которая меня посетила у этого стенда: не был ли Мокровский убит каким-нибудь охотником, увидевшим впряженных в нарты волков и принявшим врача за «сендушного»?..
Но это, конечно, случай исключительный. Основной «скотинкой» на Индигирке всегда была собака. Из-за оседлого образа жизни оленей здесь не разводили. До появления самолета собачья упряжка оставалась единственным зимним видом транспорта. В случае необходимости на собаках отваживались пускаться на огромные расстояния – до полутора тысяч километров. С появлением регулярных авиарейсов необходимость в этом отпала. Но на свои участки охотники отправлялись на собаках. А главное – весь охотничий сезон охотник объезжает пасти на упряжке. От того, хороша ли упряжка, зависела всегда успешность промысла, а зачастую и сама жизнь охотника.
В начале 80-х годов в поселке, все население которого, включая детей, составляло 252 человека, насчитывалось около 400 собак. И, бывало, сойдутся три-четыре мужика, сядут по северной привычке на корточках – «на кукорках» по-здешнему – вдоль стенки в коридоре поссовета или на крыльце клуба, достанут из карманов телогреек помятые пачки «Примы» или «Беломора» и, можете быть уверены, разговор зайдет о собаках. Здесь никто не скажет собаки. Говорят – собачки. «Собачки – наша жизнь».
У каждого дома к длинной лесине, укрепленной на распорках и напоминающей отдаленно невероятной длины козлы для пилки дров, привязано девять-десять собак. Упряжка. Нет среди них наших Шариков. Бобиков. Жучек. Не принято. Собак часто называют человеческими именами – Женя, Леня, Зоя, Парень, Малыш.
Вообще по именам собак порой можно проследить их судьбу. Например, Подкидыш. Собака по кличке Полтина – видимо, так своеобразно «преломилась» в кличке уплаченная за нее цена – 50 рублей «старыми». Почти в каждой упряжке есть пес Даный, то есть данный, подаренный. Имя огромного рыжего хохла – Фантомас – было, несомненно отражением новейших веяний. У дизелиста Кеши в упряжке Болтик, Винтик, Гаечка. У Ивана Варякина – собака по кличке Киска. Жена показывает маленькой дочке картинки в какой-то книжке: «Смотри, это киска».
– Нет, – кричит Луизка, тыча пальчиком в окно, – Киска там.
Обращаться с собаками здесь учились сызмальства, любой мальчишка не хуже взрослого мог собак и выпрячь и, что посложнее, запрячь.
Собачья упряжь – алык – делается из прочных сыромятных ремней. Одной петлей она охватывает грудь собаки, другой живот. Тяж идет к главному ремню, который называется потяг. Его прикрепляют к передней дуге нарты – барану. К потягу привязываются с двух сторон одна за другой – цугом – собаки, в отличие, например, от ненецкой упряжки, где собак впрягают в нарты веером. Собаки знают свое место, привыкают к нему, Я видела в Чокурдахе двух собак, которые бегали возле дома, вынюхивая что-то в снегу. И одна из них держалась все время сзади. Останавливалась первая, и тотчас же, как вкопанная, замирала вторая. Мне объяснили, что эти собаки так работают в упряжке, и та, что сзади, приучена повторять все движения той, что впереди. Если бегущая впереди собака начинает лениться, не налегает всей силой на постромки – еще раньше, чем каюр-погонщик, это замечает собака, бегущая сзади, и подгоняет «халтурщицу», покусывая ее за ноги.
Упряжка – это не просто некий обезличенный механизм в восемь-десять «собачьих сил». Это скорее некий собачий коллектив, где есть добросовестные собаки-трудяги и есть псы, склонные полениться, «сачкануть». Есть посмелее, позадиристее, и есть смирные, сразу поджимающие хвост, стоит соседу по упряжке, сосборив черный кожаный нос, показать клыки. Есть в каждой упряжке своя иерархия, есть свои аристократы и свои парии, но на вершине этой иерархической лестницы, признаваемый беспрекословно всеми, стоит вожак упряжки – передовик. Без хорошего передовика нет упряжки.
Упряжкой управляют только голосом. Ни хлыста, ни длинной палки-хорея, которым пользуются при езде на оленях, в руках у каюра нет. «Поть-поть-поть» – кричит он, и передовик поворачивает направо, увлекая за собой упряжку. «Кхыр-кхыр» – налево. «Тоо-ор!» – значит «Стой!» Много разных команд должен знать вожак упряжки и четко их выполнять.
Серо-черный низкошерстный Январь, слегка похожий на овчарку, – передовик в упряжке Ивана Варякина. Припадая на передние лапы, молотя хвостом, коротко взлаивая и даже как будто улыбаясь, Январь всем своим существом устремляется навстречу приближающемуся хозяину, натягивая до предела короткую цепь. Обычно отношения с собаками у охотников довольно сдержанные, лишенные всяческих сантиментов, – рабочие отношения. Собак редко гладят, ласкают – не принято. Но для Января Иван делает исключение. Он опускается на какое-то бревнышко, и Январь, жмурясь и повизгивая от удовольствия, прямо-таки подползает под хозяйскую руку.
– Он у меня талант, – говорит Иван, трепля собаку за уши, – ему и команд не надо, он сам у каждой пасти останавливается. И даже если пурга пройдет, след заметет, снегу сантиметров на тридцать нападает, он сквозь снег этот старую полозницу все равно чует, прямо по путику идет.
Есть и еще одна причина особого отношения Ивана к своему передовику. Когда охотник останавливается, чтобы проверить ловушку, он продевает остол или прудило, как его здесь чаще называют, – толстую палку с тяжелым железным наконечником – в специальную ременную петлю, прибитую сбоку нарт, и втыкает его поглубже в снег. Это – прикол, якорь для упряжки. Но если вдалеке покажется песец или дикий олень, собаки могут рвануться, выдернуть прикол и уйти. И только у передовика преподанная человеком наука должна оказаться сильнее инстинкта погони. Передовик должен удержать упряжку, не дать ей сорваться с места. Упустить упряжку или, как здесь говорят, отпустить собак – одна из самых страшных опасностей на охоте.
Тот день у Ивана начался неудачно: первые пасти оказались пустыми. Четвертая ловушка сработала – Иван еще издали увидел, что бревно лежит, а не торчит вверх, как поднятое дуло пушки. Собаки на подходе к пасти почему-то занервничали, залаяли, Адам и Амур, впряженные друг за другом, попытались даже рвануться в сторону. Нарты накренились, Иван закричал, огрел ближайшего к нартам Амура прудилом. Снег вокруг пасти был взрыт и истоптан – и десятку песцов так не наследить. Иван не сразу разобрал, кто это здесь похозяйничал, а поняв, вскочил ногами на нарты и на всякий случай внимательно оглядел тундру, поворачиваясь во все стороны. Следы были медвежьи. Нечасто, но случается, белые медведи заходят довольно далеко в тундру на участках, расположенных вблизи побережья. Яр – как раз такой участок. Иван, как он однажды выразился, обслуживает побережье океана. Запах рыбы приводит зверя к пасти, и, пытаясь достать приманку, медведь задевает сторожок. Падающее бревно не может, конечно, причинить ему серьезного вреда, но, получив бревном по морде или по лапе, медведь впадает в ярость. Разметав по снегу все не слишком-то прочное сооружение, медведь идет по тундре, круша все пасти, встречающиеся на его пути. Иногда, если зверь попадется темпераментный, он, прежде чем успокоится, успевает вывести из строя десятка два ловушек.
Однако на сей раз медведь, забредший на участок Ивана, оказался или слишком флегматичным и стерпел обиду, или, наоборот, шустрым и ему удалось увернуться от падающего гнетка. Во всяком случае, пасть не пострадала и две ближайшие, видные издалека на ровной тундре, были тоже целы. Но ни в одну из них песец не попал, а в третьей оказалась почти совсем расплющенная тяжелым бревном глупая белая «крупашка» – куропатка. И только в середине дня, подъехав к очередной пасти, Иван увидел свисающий наружу роскошный белый хвост.
Песец попался, видимо, давно, сильно примерз, его пришлось долго теребить, раскачивать, отдирать от днища ловушки аккуратно, не торопясь, чтобы не повредить драгоценную шкурку. За спиной резко взлаяли собаки, но сегодня, нанюхавшись медвежьих следов, они целый день вели себя нервно, и Иван не сразу обернулся, а выпрямившись с песцом в руках увидел, что собаки уходят. Дальше он действовал автоматически: отбросив песца, схватился за длинный ременный шнур – такой шнур волочится по снегу за каждой нартой именно на тот случай, если придется ловить уходящую упряжку. Но тут же почувствовал, что шнур не натягивается, и нарты стоят на месте. А упряжка – восемь собак, освободившись от груза, перепутав постромки, смешавшись в один клубок и надрываясь в лае, быстро уходит в тундру.
Только один Амур, впряженный справа ближе всего к нартам, бился в алыке, стремясь уйти вместе со всеми, но не мог в одиночку преодолеть сопротивление воткнутого в снег остола.
Ивану еще не приходилось отпускать упряжку, но он не раз слышал рассказы об этом и от отца, и от других охотников, потому что все они, как говаривал в свое время Варякин-старший, «этим окрещены». Но такого случая, чтоб нарты остались, а собаки ушли, не было, наверное, ни с кем. Иван даже не сразу понял, как это могло произойти. Собаки весь день нервничали и на остановках у пастей грызли и кусали потяг. Особенно постаралась Чума – большая, сильная, «пертужая» собака, которая могла в одиночку тянуть нарты, но была «шибко ндравная», за что и получила свою кличку. На широком сыромятном ремне хорошо были видны следы ее мощных зубов. В этом месте и оборвался потяг, когда собаки учуяли что-то и «дернули».
Положение Ивана, конечно, нельзя было назвать отчаянным: в нартах лежал карабин, оленья шкура, немного дров, кое-что из еды. Но до ближайшей избушки было еще часа два хода на упряжке, а у него остался один Амур. Хорошо, полярная ночь уже кончилась, но день был еще короток, снег уже заголубел, и воздух начал как бы сгущаться в преддверии ранних сумерек. Утром мороз был всего градусов тридцать, но к вечеру стало холодать.
Смертельно было жаль упряжку – ушедшие в тундру собаки чаще всего погибают, если их не удаётся быстро разыскать с вертолета. А у Ивана шансов добраться до рации не было никаких. Придется отсиживаться в поварне и ждать, когда на Яру всполошатся и начнут его искать – до Яра ему без собак не добраться. Погруженный в эти невеселые мысли Иван упрямо тянул нарты по следу ушедшей упряжки – благо, она ушла почти в ту сторону, где была избушка. Рядом «работал» Амур. Он налегал на постромки, что было силы, словно понимал серьезность ситуации, в которую они с хозяином попали. Иван посмотрел на пса, высунувшего от старания язык, и угрюмо подумал о там, что в поварне, куда он стремится сейчас дойти, запасено совсем немного рыбы. А если пурга? Ему вспомнились рассказы стариков о том, как приходилось иногда есть собак, и его передернуло.
Прошел час. Второй. Стемнело. И вдруг Ивану показалось, что вдалеке, на белой глади тундры, появилось какое-то темное пятно. И словно донесся собачий лай!
– Январь! Январь! – отчаянно закричал Иван. И через несколько минут собаки прыгали уже вокруг Ивана, путая и без того перепутанную упряжь. Январь повизгивал и бил хвостом, словно извинялся за все, что пришлось пережить хозяину. А Иван готов был расцеловать его в смышленую виноватую морду.
Если остальные собаки – мышцы, тягло, то передовик – это душа, мозг упряжки. Упряжную собаку можно заменить в любой момент – была бы вынослива – «пертужа», да хорошо бы «гнала дорогу». Смена передовика – это всегда событие, встряска для упряжки. Подготовка передовика – целая наука. Отбирают лучшего щенка из помета самой лучшей, самой чистопородной собаки. Тщательно проверяют все его стати – лапы, грудь, шерсть. Хорошо ли видит, хорошо ли слышит. Чуть подрастет – начинается учеба, натаскивание будущего вожака. Готовить его начинают задолго до того, как одряхлеет старый передовик – ведь ему предстоит стать «наставником», передать молодому всю науку. Учат молодого в основном «на практике», припрягая к «старику». Собаки обычно сохраняют «рабочую форму» лет пять, хорошего передовика держат подольше, прощая за опыт и ум некоторую потерю силы.
За жизнь через руки каждого охотника проходят сотни собак, запоминаются, конечно, только наиболее яркие индивидуальности. Но передовиков своих охотник, как правило, помнит всех. Расставание с состарившимся передовиком – всегда маленькая драма, почти всегда – уверенность в том, что другого такого не будет.
С остальными собаками расстаются без особых эмоций – ничего не поделаешь, роль собак сугубо служебная, держать собаку, которая уже не может работать, никто не станет. За год на прокорм упряжки нужно более пяти тонн рыбы. И какой – отборной. Ни одна здешняя собака есть ни щуки, ни налима не будет.
В самый первый мой приезд в Полярный я пошла смотреть, как кормят собак – а это происходит один раз в день. Прокопий Семенович Варякин вдвоем с женой вынес из дома огромный чан – алгуй – с варевом из рыбы. Несколько минут, пока варево остывало на морозе, пахуче дымясь, собаки бесились, лаяли, рвались и падали, опрокинутые натянувшейся до предела цепью. Потом Прокопий Семенович попробовал пальцем в чане, и махнул жене – давай. Содержимое чана вылили в длинное долбленое корыто. Короткая схватка возле него, два-три пинка хозяйской ноги, и через минуту все было тихо, все морды были опущены к еде. Железно усвоенное правило – позже начнешь, меньше достанется – очень способствовало наведению порядка.
И тогда я заметила пса, который, грустно помаргивая желтым глазом, сидел в стороне, зябко поджимая культю, оставшуюся вместо левой лапы. Прокопий Семенович понял мой немой вопрос.
– Хороший передовик был. В капкан попал. Пристрелить полагается. Не смог. Рука не поднялась. Упряжка ушла, он ее обратно привел, в тундре меня нашел. Так что я ему, может, жизнью обязан.
Собаки уже вылизывали корыто – кто как мог, некоторые норовили влезть в него лапами. Их привязали по местам, они улеглись, сытые, умиротворенные.
– Ну, иди, пенсионер, – вздохнул Прокопий Семенович, выливая из чана прибереженые остатки. И вчерашний гордый повелитель упряжки заковылял к корыту, униженно-благодарно виляя хвостом.