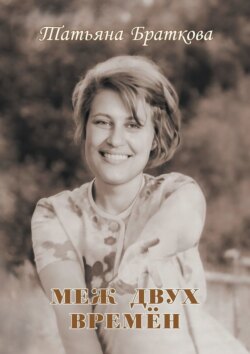Читать книгу Меж двух времён - Татьяна Браткова - Страница 9
РУССКОЕ УСТЬЕ
«Буран» против Чумы и Фантомаса
ОглавлениеКонец семидесятых. Вот-вот затарахтит, заплюется бензиновой гарью вестник технического прогресса – снегоход «Буран». В Чокурдахе первые «Бураны» уже появились, и парни гоняют на них по улицам, как у нас на мотоциклах – для потехи. Кое-кто из летчиков авиаотряда приобрел машины – « выскочить» на выходной в тундру. Профессиональные охотники «Буран» признавать не хотели долго. И в 80-х годах в тундре царствовала еще упряжка.
Консерватизм? Недостаток образования? Да нет, моторные лодки, например, они приняли быстро и легко. Уже в конце шестидесятых невозможно было найти ни у кого старой, верткой лодочки – ветки, которая веками была единственным летним видом транспорта.
Строили эти лодки из досок лиственницы: одна – дно, четыре – борта. Их сшивали оленьими жилами, промазывая швы смолой, приготовленной специальным образом из коры все той же лиственницы. Из ствола лиственницы же тесали вручную двухлопастное весло – наподобие байдарочного. Классическая ветка была так легка, что ее можно было поднять одной рукой.
Преимущества моторной лодка были столь очевидны, что ветка исчезла сразу, как только появилась возможность обзавестись «Прогрессом».
Хотя, конечно, старым охотникам обращение с техникой давалось нелегко. Когда я гостила у Варякиных на охотучастке Яр, дядя Микуня Портнягин пришел пешком километров за 20, промучившись бесплодно несколько часов с заглохшим мотором. Яр – одно из бывших достаточно крупных по здешним масштабам поселений, в нем и поныне осталось пять домов – здесь сходятся границы нескольких охотучастков. Поэтому именно на Яру в конце 70-х годов была создана первая бригада охотников.
Дядю Микуню покормили, отогрели – август в тундре это, примерно, как у нас октябрь. Потом Ваня Варякин завел свой «Прогресс», и они умчались. Мы с ваниной Катериной еще домывали посуду, когда они уже вернулись – на двух лодках. Дядя Микуня сокрушенно вздыхал и глядел смущенно своими голубыми, кроткими, ясными, как у детей, глазами.
Когда старшее поколение охотников начинало свою жизнь, в тундре техники, считай, вообще никакой не было. Помню, Прокопий Семенович Варякин сетовал, что в хозяйстве Полярнинского отделения совхоза всего-навсего слабосильный старый трактор – один, «аки зуб хлябающий». А Прокопий Семенович был среди охотников, пожалуй, единственным страстным поклонником всяческой техники. Имея за плечами всего четыре класса, он выписывал журналы «Техника – молодежи», «Моделист-конструктор», «Знание – сила», «Юный техник». И прочитывал их от корки до корки. В одном из этих журналов он встретил описание аэросаней и загорелся идеей их смастерить, Занимался он этим в своем зимовье на Яру, к которому пристроил для этих целей что-то вроде мастерской. На мой вопрос, где же он берет необходимые детали, отвечал уклончиво, посмеиваясь в редкую бородку: «Гаечка выпрошена на востоке, болтик на западе».
На Яр я попала много лет спустя, до этого приезжала все зимой да зимой. И увидала, наконец, мастерскую, где до последних дней все пытался старый охотник осуществить золотую свою несбыточную мечту.
Вместе с Иваном и Сашей Фофановым, пилотом привезшего меня вертолета, долго перебирали мы какие-то металлические части, которые успел собрать Прокопий Семенович. А потом Фофан откинул какую-то помятую клеенку и удивленно присвистнул, заломив на макушку синюю форменную фуражку: «Вот это да! Откуда ж дед аэродинамику-то знал!»
Под клеенкой оказался огромный деревянный пропеллер, вытесанный охотником вручную топором из цельного лиственничного ствола – так, как тесал его отец, а может и он сам в молодые годы, весла для ветки.
Суждено была этому пропеллеру сгореть в печке или дотлевает он и по сей день там, на Яру, заносимый снегом, – не знаю. Сманила Катя Ивана из тундры, кончилась охотничья династия Варякиных, как многие другие.
Старики «Буран» так и не приняли.
А молодые стали пересаживаться на «Бураны». И хотя делали они то же дело, что их отцы и деды, что-то неуловимо начало меняться в охоте, в самих охотниках. Вернее, в их взаимоотношениях с тундрой. В тундре жили. А теперь в нее стали выходить на работу. Собаки – это был целый мир. А «Буран» – все-таки всего-навсего машина, орудие производства. Его не назовешь ласковым именем, он не бросится, радостно лая, тебе навстречу. Пережидая пургу, не прижмешься, ловя тепло, к его железному боку. Не скажешь ему, потеряв дорогу: «Ну, милый, вывози». Он не родит тебе пару веселых маленьких «Буранчиков». И ничего не сожмется, не дрогнет в твоей душе, когда придет час сменить его на новый.
Но если и без «лирики», настороженное отношение даже молодых, «прогрессивно мыслящих» охотников к «Бурану» вполне объяснимо.
«Буран» – машина и как всякая техника не может обладать стопроцентной надежностью. Исправление даже мелкой поломки в тундре, в темноте полярной ночи, на пятидесятиградусном морозе – это такая мука или «кара», как здесь говорят, что и врагу не пожелаешь. Серьезная неисправность же грозит просто гибелью. А конструкция «Бурана» к тому же плохо приспособлена к здешним экстремальным природным условиям.
Считалось, что благодаря «Бурану» можно будет изменить охоту принципиально, отказаться от промежуточных избушек, выезжая по «пастям» из основного зимовья, возвращаться туда же в конце дня. Да и дальние зимовья как бы «приблизятся» к поселку, на дорогу к ним не надо будет тратить 2—3 дня, как прежде.
Слепая вера в могущество техники или недопонимание здешних условий? Кто рискнет уйти на десятки километров от жилья на машине, которая может отказать в любую минуту, да еще в «пустую» тундру, где не будет даже поварни, где в случае необходимости можно найти прибежище?
Однако с конца 70-х годов «Буран» насаждался в северных совхозах очень настойчиво. Была такая уверенность – двинуть в тундру технику, оснастить охотников современным средством передвижения вместо дедовской упряжки – и охотпромысел обретет привлекательность в глазах молодежи, разрешится главная проблема, вставшая к этому времени во весь рост, – кадровая.
Я обошла в разные годы десятки кабинетов – в Чокурдахе, в Якутске, в Москве. И поняла: что делать, не знает никто. Потому что все стереотипы ломались, вступая в соприкосновение с такой необычной, такой безумно сложной в своей кажущейся простоте жизнью профессионального охотника. Когда все проблемы спутаны в клубок и их ну никак не поделить привычно на производственные, социальные, бытовые…
Поселок продолжал строиться, а ряды охотников неумолимо таяли. Жизнь текла как бы по инерции.
…И тут грянул гром.
Можно называть его как угодно: крах плановой экономики, экономические реформы, рынок… Для жителей Крайнего Севера, занятых в традиционных отраслях хозяйственной деятельности – охоте и оленеводстве – то, что произошло в 90-х годах, обозначается только одним «внеэкономическим» понятием – катастрофа.