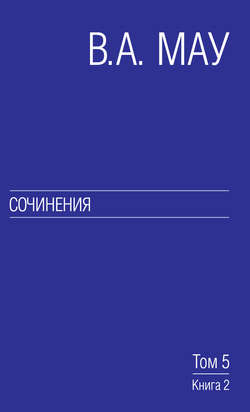Читать книгу Сочинения. Том 5. Экономическая история и экономическая политика. Статьи. Книга 2 - В. А. Мау - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Раздел IV
Экономическое развитие современной России
Экономисты, экономическая наука и экономическая политика: точки пересечения и пределы взаимодействия[2]
Экономическая теория и хозяйственная практика: механизмы взаимодействия
ОглавлениеКогда-то Т.И. Заславская, отвечая на вопрос иностранного корреспондента о том, какая доля ее рекомендаций находит применение на практике, ответила: 80 %. И на удивленное восклицание собеседника добавила: через двадцать лет. И это не шутка, не преувеличение и не парадокс. Это правда. Причем такая ситуация отражает отнюдь не косность науки и практики, отнюдь не слабость влияния науки на коридоры власти. Просто механизм воздействия науки на практику не столь прямолинеен, как иногда кажется или кому-то хочется. Научные исследования формируют не рекомендации, а интеллектуальную и культурную среду, воспитывают в университетах молодежь и лишь потом находят практическое воплощение – через двадцать лет, т. е. с появлением нового поколения политиков.
Словом, воплощение научных идей через двадцать лет – это не трагедия, а реальность стабильного общества. Гораздо хуже, когда от науки требуют решений и рекомендаций «сейчас же, немедленно». В прошлом мы нередко слышали призывы к приближению науки к практической жизни от коммунистических руководителей СССР. Но тогда за этим не стояло ничего, кроме лицемерного ритуала, – вождям наука нужна была лишь для подтверждения и восхваления очередных директив и инициатив безотносительно к их реальному содержанию и элементарной грамотности.
Призывы к науке дать конкретные рекомендации раздаются и в настоящее время, когда острый социально-экономический кризис требует немедленных и, как правило, нестандартных решений. Это поистине трагедия экономической науки периода радикальных, революционных перемен. И ученые идут в практическую политику, начинают наниматься практическим хозяйственным руководством – нередко вопреки собственным предпочтениям, собственной склонности. Можно привести здесь немало примеров как на правом, так и на левом флангах нашей современной политической жизни. Конечно, кто-то находит себя в новом качестве, но таких меньшинство. Все-таки не в политической деятельности состоит предназначение ученого. Гораздо лучше и приятнее заниматься такими банальными вещами, как читать книги (поверьте, среди них встречаются неплохие), а также, разумеется, писать книги.
Прямая вовлеченность исследователей в практическую политику имеет сразу несколько негативных последствий. Прежде всего она дискредитирует сами научные рекомендации и ученых. Для «практикующего экономиста» не является секретом, что экономико-политические решения никогда (точнее, почти никогда) не принимаются в соответствии с научным расчетом, даже если он трижды верен и ни у кого не вызывает сомнения. Экономическая политика является главным образом результатом сложного взаимодействия различных социально-экономических и политических сил, групп интересов. Баланс сил и интересов – вот стержень политики, а наука здесь в лучшем случае может давать ориентиры тем политикам, чьим позициям эти рекомендации наиболее близки. Более того, прямая вовлеченность ученого в политику оказывается фактическим прикрытием для циничного политического расчета, не всегда понятного ученому в силу принципиально иного типа его мышления.
Однако самым опасным является здесь то, что наука оказывается на положении идеологической обслуги той или иной политической деятельности. Причем в лучшем случае – обслуги политики партии (в плюралистическом обществе это не так отвратительно, как в тоталитарном), а в худшем – обслуги конкретного политического вождя. Здесь кто-то уже говорил, причем в положительном контексте, что важнейшей функцией науки является идеологическое обслуживание хозяйственной (политической?) практики. Категорически не могу согласиться с подобным утверждением. Разумеется, наука имеет идеологические функции, но они состоят не в обслуживании чьих-то текущих интересов, а в формировании и воспитании нового поколения ученых и будущих политиков – именно будущих политиков и именно тогда, когда эти молодые люди находятся еще на студенческой скамье.
Признание идеологической функции науки непосредственно по отношению к текущей экономической политике крайне опасно. Такой подход почти дословно напоминает известную полемику 1927 года, состоявшуюся между С.Г. Струмилиным и В.А. Базаровым[3]. Первый утверждал, что наука должна быть служанкой партийных директив и способствовать решению задачи построения социализма. Второй возражал, апеллируя к вечным ценностям знания. Вскоре Базаров был арестован, а Струмилин стал певцом и апологетом ускоренной индустриализации и насильственной коллективизации, произнеся позднее циничные и одновременно трагические слова: «Лучше стоять за высокие темпы индустриализации, чем сидеть за низкие». Впрочем, хочется надеяться, что это мое рассуждение так и останется данью истории и страна вновь не попадет в ситуацию, когда от экономистов будут требовать единодушных криков одобрения.
Итак, экономическая наука может всерьез влиять на хозяйственную практику по преимуществу опосредованно, с течением времени, через формирование культурной и интеллектуальной среды. Однако бывают в истории моменты, когда влияние науки на практику оказывается прямым и непосредственным. Впрочем, это случается довольно редко и почти всегда происходит накануне или в начале глубоких социальных переворотов, которые принято называть революциями. Случается это, как правило, тогда, когда крупный экономист близко сходится с «первым лицом» государства, попавшим в тяжелую ситуацию неотвратимо надвигающегося кризиса. Правда, и в этой ситуации успехи случаются нечасто. Я приведу здесь несколько примеров.
Прежде всего на ум приходит классический случай – выдающийся французский экономист Тюрго во главе государственных финансов в стране, чреватой революцией. Он попытался сформировать и осуществить курс экономической политики, основанный на своих теоретических воззрениях и способный, как ему представлялось, спасти страну от политических потрясений. При поддержке короля ему удалось обеспечить принятие так называемых шести эдиктов Тюрго, практическая реализация которых означала бы глубокую трансформацию французской социально-экономической и финансовой системы. Однако само принятие этих эдиктов предопределило падение министра-теоретика-реформатора – практическое осуществление доктринально совершенно справедливых идей подрывало позиции политически влиятельных групп интересов, которые объединились и добились отстранения Тюрго от должности и отмены принятых под его нажимом нововведений. Путь революционным катаклизмам был открыт. Кстати, существуют свидетельства, что во время прощальной аудиенции у Людовика XVI Тюрго предостерегал его от судьбы английского короля Карла I, окончившего жизнь на эшафоте[4].
(Право же, с этой точки зрения в лучшем положении оказался другой великий физиократ, Ф. Кенэ, лечивший королеву и принятый при дворе. Близость к власти без вовлеченности в принятие экономико-политических решений способствовала расширению популярности его концепций, позволяя ему сделать свою теорию достоянием широких общественных кругов без привлечения негативного внимания и ненависти со стороны групп интересов.)
Другой пример непосредственного влияния экономической науки на хозяйственную практику – экономические реформы 1987–1990 годов в СССР. Как и в случае с Тюрго, в основе этого влияния лежала близость позиций части экономистов первым лицам государства, а также осознание необходимости принять ряд серьезных мер по реформированию неэффективной хозяйственной системы. Конец 1980-х годов – период исключительной популярности российской экономической науки и невиданного до того влияния ее на решения государственной власти. Теоретики концепции «совершенствования хозяйственного механизма», с начала 1960-х годов разрабатывающие идеи усиления рыночных (товарно-денежных) отношений в советской плановой экономике, взяли реванш за два десятилетия подчинения догматической «политической экономии социализма». К экономистам-рыночникам внимательнейшим образом прислушивалось объявившее перестройку высшее руководство СССР, их идеи принимались буквально «с колес», воплощались в законопроектах и постановлениях правительства. Разумеется, все это происходило не без борьбы, но поддержка М.С. Горбачева и его соратников обеспечивала необходимую политическую базу для действий экономистов-реформаторов. Увы, это не уберегло страну от экономической катастрофы 1991 года. Такова, повторим, логика развития революционных процессов и вползания в революционный экономический кризис[5].
Разумеется, были и другие, позитивные примеры работы экономистов на высоких государственных должностях, т. е. их прямой вовлеченности в принятие хозяйственно-политических решений. Дж. Вильямсон (кстати, автор термина «Вашингтонский консенсус») предпринял в начале 1990-х годов попытку анализа участия экономистов в практической политике, приводя целый ряд позитивных примеров такого рода. Начало было положено Р. Барром (премьер-министр Франции), затем видные экономисты – президенты и министры финансов в Латинской Америке, М. Бруно в Израиле, Л. Бальцерович в Польше, В. Клаус в Чехословакии. Среди других экономистов-политиков здесь называют и Е. Гайдара[6]. Причем теперь, по прошествии времени, можно сделать вывод, что политическая деятельность ученых-экономистов оказывается успешной тогда, когда она происходит в условиях политической стабильности, сильного государства, способного контролировать и обуздывать группы интересов. Иное дело – обстановка перманентного кризиса и революции.
Наконец, существует и ряд мифологем относительно влияния экономических доктрин на экономическую политику. Имеется в виду, что те или иные политики (или политики-экономисты) вольны выбирать те или иные концепции и следовать им в своей практической деятельности. На самом деле влияние доктрин на экономико-политическую практику аналогично приведенным выше соображениям о влиянии на практику самих ученых-экономистов, т. е. основная функция экономической теории – формирование культурной среды и нового поколения политиков.
Если обратиться к истории экономической политики и экономической мысли, то нетрудно увидеть, что взаимодействие теории и практики было процессом двусторонним. Экономические идеи, как правило, формулировались на основе обобщения новых тенденций реальной хозяйственной жизни. Затем начинали распространяться в обществе, формировали культурную среду. И лишь после этого становились официальной основой экономической политики – но уже не столько как доктрины конкретных экономистов, сколько как стиль мышления политиков данного поколения, данной эпохи. Иными словами, политики не выбирают экономическую доктрину, но живут в ней, как живут в своей, а не в чужой эпохе.
Вокруг вопросов о взаимодействии теории и практики сложилось сегодня немало мифов и недоразумений. Обратим внимание на два из них, особенно популярных в последнее время.
Так, нередко можно слышать утверждение, что президент США Ф.Д. Рузвельт положил в основу своего «нового курса» идеи кейнсианства. Но ведь классическая работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» была опубликована в 1936 году, т. е. три года спустя после провозглашения «нового курса», и тем самым труд Кейнса, скорее, мог в какой-то мере опираться на уже имеющийся практический опыт. Книга была опубликована уже тогда, когда опыт централизованного регулирования с целью снижения социальной напряженности и ускорения экономического роста реализовывался в разных формах в таких разных и все-таки имеющих нечто общее случаях, как СССР, Германия и Соединенные Штаты. Или, как утверждал один из современников, Кейнс дал теоретическое обоснование борьбы с безработицей как раз в тот год, когда Гитлер покончил с этим явлением в Германии.
Другое недоразумение относится к нашей недавней истории. Существует миф, что тип посткоммунистических реформ в России стал результатом некоторого ошибочного выбора, сделанного Б. Ельциным и Е. Гайдаром в пользу некой монетаристской теории (заметим, что каждый понимает ее по-своему) и связанного с ней либерального варианта вхождения в рынок.
Однако реальное развитие было совершенно иным. Вряд ли кто-то может заподозрить Б. Ельцина в том, что он является стихийным либералом. И вряд ли либерализм в конкретных российских культурно-исторических традициях мог приобрести сколько-нибудь значительное влияние, если бы не было для того серьезных политических резонов.
А они были, и притом достаточно простые. К осени 1991 года российская политическая система оказалась полностью дезинтегрированной. Наша страна, даже еще при формальном сохранении СССР, оказалась без основных атрибутов государственности – своей валюты, армии, правоохранительной системы, границ. Не было ни административных, ни рыночных рычагов контроля за ситуацией. Стране угрожали голод, холод, распад экономического пространства. И в отсутствие административного ресурса единственное, что оставалось делать, – это пойти по пути последовательной либерализации. Это соответствовало и тому культурному, интеллектуальному ренессансу либерализма, который происходил тогда в мире[7]. Либерализация рубежа 1991–1992 годов позволила избежать голода и холода зимой, не допустить распада России. Однако, как только непосредственные опасности такого рода были устранены, а административный ресурс власти минимально восстановлен, подавляющая часть политической элиты отвернулась от экономического либерализма, хотя периодически вновь возвращалась к нему при обострении кризисных явлений.
Аналогичное можно сказать и о монетаризме, и о пресловутом «Вашингтонском консенсусе», о котором здесь уже немало говорилось. Страна не выбирает жесткий монетарный курс, если у нее есть резервы (экономические, административные) его избежать. Поворот в этом направлении происходит тогда, когда просто нет сил и средств для реализации других направлений в экономической политике. Здесь вновь возникают недоразумения – противопоставление ортодоксальных стабилизационных моделей гетеродоксным, монетарной стабилизации и «Вашингтонского консенсуса» немонетарным методам. Никто из сторонников так называемой гетеродоксной стабилизации на Западе не противопоставляет ее ортодоксальной, но предлагает лишь, если политические обстоятельства это позволяют, дополнить стандартные макроэкономические (если угодно, монетаристские) решения комплексом мер государственного контроля за динамикой цен и доходов[8].
Но, повторю, лишь если у государства есть для этого необходимый административный ресурс.
Остается лишь подчеркнуть, что все это не является предметом научных дискуссий, но относится к собственно сфере экономико-политического выбора.
Возможности экономической науки в отношении экономической политики посткоммунистической России
Основным направлением, механизмом влияния экономической науки на хозяйственную (прежде всего экономико-политическую) практику в краткосрочном отношении является, по моему мнению, изучение опыта осуществления экономической политики и на этой основе осмысление реальных путей нашего развития, а также последствий выбора того или иного варианта. Здесь особенно важны два момента: реальность альтернативных вариантов и опыт.
Экономическая политика всегда альтернативна. Всегда есть выбор по крайней мере между двумя вариантами социально-экономического развития и соответственно различными вариантами действии лиц, принимающих решения. Однако надо проводить различия между реальными (возможными) и мыслимыми (желаемыми) вариантами. Можно сколько угодно мечтать о том, как быть одновременно здоровым и богатым, как одновременно сокращать налоги и увеличивать бюджетные расходы, как с увеличением бюджетной нагрузки на экономику обеспечивать экономический рост. Однако все это так и останется бессмысленными проектами, если не будут даны ответы на два простых вопроса. Во-первых, как соотносятся выдвигаемые предложения с базовыми, общепринятыми и однозначно доказанными положениями экономической теории. И, во-вторых, какие социальные силы (группы интересов) поддерживают тот или иной вариант развития событий. Выбор реальных вариантов из мыслимых – это всегда ответ на классический вопрос «кому это выгодно?». И здесь социально-экономические исследования могут быть критически важными.
Другая практическая задача науки – изучение опыта осуществления экономической политики. Мировой опыт, накопленный за последние пятьдесят лет, поистине уникален. Десятки стран опробовали сотни различных вариантов (моделей) экономической политики – регулирования и дерегулирования, стабилизации и дестабилизации, роста и спада, и т. д. и т. п. Этот опыт является богатейшим источником для анализа, осмысления, дискуссий и сопоставлений. Разумеется, менее всего здесь следует выбирать желаемое и призывать к немедленному внедрению у нас безотносительно к оценке степени сопоставимости такого опыта[9]. Необходимо не просто изучать опыт, но и сравнивать объективные характеристики стран, а также социально-политические обстоятельства данного места и времени.
Скажем, реформы в стране с преобладающим сельским населением будут существенно отличаться от преобразований в высокоурбанизированных странах. Страны с высоким уровнем социальных гарантий реформируются иначе, чем страны, где социальное и пенсионное обеспечение находится в зачаточном состоянии и т. д. Главными же здесь являются индикаторы ВНП на душу населения (этот показатель непосредственно предопределяет многие другие социально-экономические индикаторы) и уровень бюджетной нагрузки в ВНП.
Не менее важна и политическая ситуация. Проводятся ли реформы в результате решения задач национального освобождения страны или из-за крушения собственного режима? Имеют место процессы политической дезинтеграции или нет? Наконец, каков военно-политический контекст (реформа в послевоенной стране несопоставима с реформой в условиях мирного времени)? Однако главным вопросом здесь является характеристика административных возможностей государства. Принципиально различным является экономическое развитие (и соответственно возможности экономической политики) в условиях сильного или слабого государства.
Сквозь призму вышеизложенного представляется целесообразным выделить следующие основные исследовательские сюжеты, которые получили освещение в современной экономической литературе.
Во-первых, исследования в области макроэкономической стабилизации и экономического роста. Эти исследования имеют достаточно широкий контекст, к ним же относится изучение опыта стабилизации и роста в условиях посткоммунистических стран.
Во-вторых, немногочисленный, но весьма интересный пласт работ, посвященных изучению преобразований в условиях революций. В частности, экономических реформ в условиях слабого государства. Ведь именно системные реформы при слабом государстве являются принципиальной особенностью революционного типа преобразований.
В-третьих, раздел экономической науки, объединяемый названием «политическая экономия популизма».
О стабилизации и росте написано немало. За последнее время быстро растет объем соответствующей литературы, посвященной посткоммунизму. Более или менее определенно сформулированы некоторые общие закономерности проведения соответствующих реформ, последовательность их отдельных компонентов, связанные с этим кризисы и противоречия. Было также показано, что в общем экономические характеристики посткоммунистической политики стабилизации и выхода на траекторию роста не отличаются принципиальным образом от уже имеющегося решения макроэкономических задач в других странах. Эти вопросы были рассмотрены сегодня в выступлении Е.Т. Гайдара, и я не буду подробно на них здесь останавливаться.
Обращу внимание только на один момент. Понятно, что особые сложности в этой связи вызывают проблемы создания (в более благоприятной ситуации – воссоздания) адекватной институциональной среды, и прежде всего устойчивости институтов частной собственности. Однако вокруг этого вопроса возникает ряд недоразумений, аналогичных тем, о которых у нас выше шла речь в связи с соотношением ортодоксального и гетеродоксного подходов к макроэкономической стабилизации.
В этой связи на нашей конференции ссылались, в частности, и на выступления Дж. Стиглица – действительно одного из крупнейших современных экономистов, предложившего идеи «поствашингтонского консенсуса»[10]. Между тем это противопоставление «двух консенсусов» является искусственным и никак не следует из того выступления, на которое здесь ссылался В.М. Полтерович. Дж. Стиглиц отнюдь не предлагает заменить «Вашингтонский консенсус» на нечто совершенно противоположное, но говорит лишь о необходимости дополнить набор достаточно очевидных макроэкономических постулатов (здоровый бюджет, ответственная денежная политика, либерализация торговли, рыночное ценообразование) набором институциональных решений, обеспечивающих стабильность законодательства, гарантии прав собственности, прозрачность рынков, т. е. всем тем, что должно обеспечить государство.
Требования и «Вашингтонского консенсуса», и «поствашингтонского консенсуса» достаточно очевидны, и лишь знакомство с ними на основе поверхностных газетных публикаций может привести к каким-то дискуссиям. Строго говоря, все это не имеет отношения к экономической науке и является лишь предметом реалистичной оценки политических возможностей данной власти в данной стране. Трудно представить себе правительство, которое не отдавало бы себе отчета в важности решения институциональных проблем. Однако в разных странах мы видим существенно различный опыт в этом отношении. Но, вновь подчеркну, это уже вопрос не экономической теории, а конкретных административных возможностей. Институциональные проблемы не решаются (или решаются плохо) не потому, что кто-то отдает перед ними предпочтение макроэкономике, но лишь потому, что обе группы проблем требуют для своего решения различного временного интервала и различного административного ресурса. Как показывает практика, при всей неимоверной сложности макроэкономических (прежде всего бюджетно-денежных) проблем они для своего решения требуют относительно меньшего властного ресурса и меньшего времени, чем, скажем, преобразование отношений собственности, легитимизация частной собственности в глазах общественного мнения или разработка и внедрение последовательной системы рыночного законодательства.
Гораздо меньшее внимание привлекает в работах современных исследователей вопрос об особенностях экономической трансформации в условиях революции. Между тем, если уж говорить об уникальности современной российской ситуации по отношению к другим посткоммунистическим странам, именно этот момент дает для размышлений подобного рода веские основания. Россия является, по сути, единственной страной (помимо Китая), для которой коммунистическая система была продуктом собственного развития, а не навязана извне. Соответственно и выход из коммунизма становится задачей особой сложности, связанной с разрушением национального консенсуса и резким обострением борьбы различных социальных сил и групп интересов. Если для стран Центральной и Восточной Европы преодоление коммунистического прошлого является объединяющей общество целью, то для России эта проблема, напротив, фактор общественной дезинтеграции.
Такая ситуация имеет прямые экономические последствия. Экономическая политика в обществе, раздираемом социальной борьбой, не может быть устойчивой и последовательной. Прежде всего это находит проявление в характере и возможностях государственного воздействия на осуществление социально-экономических процессов. Революция – это вообще не массовые манифестации, а осуществление системных преобразований в условиях слабого государства. Именно слабость государства является фундаментальным фактором развития современной российской экономики, и ни один исследователь не может позволить себе абстрагироваться от такого положения вещей.
Слабость государства проявляется и в постоянных колебаниях экономического курса, и в множественности конкурирующих друг с другом центров власти, и в отсутствии сложившихся и устойчиво функционирующих политических институтов, сколько-нибудь понятных и устоявшихся правил игры. Слабость государства порождает ряд особых проблем функционирования экономики. Этот вопрос заслуживает отдельного, самостоятельного разговора, выходящего за рамки нашей дискуссии.
Вот лишь некоторые экономические последствия слабости государственной власти, подтверждаемые опытом не только современной России, но и всех великих революций прошлого[11].
– Неспособность собирать налоги. Это приводит к резкому обострению бюджетного кризиса и недофинансированию в значительных объемах государственных обязательств практически во всех странах, находящихся в аналогичном положении.
– Резкое возрастание трансакционных издержек с соответствующим снижением конкурентоспособности отечественного производства.
– Демонетизация народного хозяйства, что приводит к снижению денег в ВНП. Причем характерно, что это наблюдалось и в странах, которым удавалось избежать инфляционных процессов, и было связано с уходом денег из обращения в сокровища.
– Слабость государства накладывает неизбежный отпечаток на характер осуществления приватизации, выдвигая на передний план этого процесса решение социально-политических (стабилизация власти) и фискальных задач.
– Наконец, слабое государство особенно уязвимо перед коррупцией и лоббизмом. Нередко, в том числе и в ходе сегодняшней дискуссии, приходится сталкиваться с парадоксальным умозаключением такого типа: наше государство коррумпированное – наше государство слабое – необходимо расширять регулирующую роль государства. На практике это означает призыв к расширению функций коррумпированного государства. Укрепление государства не должно сводиться к расширению возможностей чиновничества вмешиваться в хозяйственную жизнь, и особенно заниматься своим любимым делом – по своему усмотрению распределять редкие ресурсы (неважно, материальные или финансовые).
Еще одним блоком научных проблем, увы, становящихся актуальными в настоящее время, является исследование экономики популизма. Этим вопросам посвящена обширная литература, накоплен немалый практический опыт осуществления популистской экономической политики и следующих за ней экономических кризисов и политических потрясений. Как показано в литературе[12], страна оказывается особенно уязвимой для популизма при наличии в ней таких факторов, как разрыв между экспортоориентированным и импортозамещающим секторами, провал попыток макроэкономической стабилизации и усталость от стабилизационной политики, неустойчивость демократических институтов, слабость и фрагментированность партийной системы (это позволяет лоббистским группировкам оказывать непосредственное воздействие на решения исполнительной власти), склонность общества к принятию харизматической политической фигуры в качестве национального лидера. Хотя я здесь лишь пересказал соображения, изложенные Р. Дорнбушем и С. Эдвардсом применительно к латиноамериканским странам 1970-1980-х годов, нетрудно заметить, что все это имеет непосредственное отношение и к нам сегодня.
Изучение этого опыта было бы исключительно полезно для осмысления логики осуществления соответствующего экономического курса и его последствий для положения страны уже в ближайшей перспективе. Имеющийся опыт деятельности популистских правительств (опыт, который нередко оказывается прогнозом) можно коротко суммировать следующим образом.
На первой фазе предпринимаются попытки ускорить промышленный рост путем некоторого усиления денежной эмиссии, а также за счет перекачки финансовых ресурсов из экспортных секторов в сектора «национальной гордости» (обычно отечественное машиностроение) при одновременном стимулировании спроса через законодательное повышение уровня оплаты труда. Экономика действительно начинает расти, а благосостояние народа увеличивается. Создается впечатление, что правительство добивается крупных успехов, а страна находится на пороге экономического чуда. Популярность власти заметно возрастает. Продолжительность этого этапа зависит от наличия у государства валютных резервов и масштабов эмиссии. Значительные валютные резервы дают больше возможностей для экспериментирования и соответственно удлиняют период надежд на экономическое чудо. Кажется, что найден секрет легкого решения всех проблем.
На второй фазе в экономике начинают наблюдаться дисбалансы. Выясняется, что подъем производства и благосостояния сопровождается ухудшением ряда макроэкономических показателей – ростом дефицита торгового и платежного балансов, сокращением валютных резервов, ростом внешнего долга. Однако эти негативные сдвиги до поры до времени видны только профессиональным экономистам (а в условиях длительного отрыва страны от реальной рыночной экономики – далеко не всем экономистам). Нарастают трудности с бюджетом, но кто станет обращать внимание на такие «временные мелочи», когда налицо ускорение темпов роста производства.
На третьей фазе происходит быстрое нарастание товарного дефицита в контролируемом государством секторе и ускоряется инфляция свободных цен. Попытки заморозить цены ведут к усугублению товарного дефицита, а неизбежная девальвация курса национальной валюты оборачивается взрывом инфляции. В наших условиях, увы, вероятность такого рода действий особенно велика – тяга российской власти к административному контролю цен, всяческим запретам на валюту в полной мере вписывается в «национальные традиции».
Вслед за этим ухудшается собираемость налогов, разваливается бюджет. Что бы ни предпринимало правительство, уровень жизни начинает снижаться, сжимается производство. Начинаются народные выступления, причем особенно острой ситуация оказывается в столице и других крупных городах. В современной российской ситуации это было бы особенно болезненно, поскольку нельзя исключить переплетение высокой инфляции с товарным дефицитом.
Наконец, на четвертой фазе происходит падение правительства и принятие новыми (нередко военными или чрезвычайными) властями радикальных мер по стабилизации социально-экономической ситуации.
Именно так развивались события в Бразилии и Аргентине, Чили и Перу, Болгарии и Румынии. Причем далеко не всегда дело ограничивается одним туром эмиссионных экспериментов. Инфляционные и стабилизационные режимы могут сменять друг друга несколько раз в течение десятилетий.
Конечно, зарубежный опыт ни для какого подлинно национального и патриотического правительства не является показательным. Одно дело – они, и совсем другое – мы. Специалистам по «экономике развития» хорошо известно, что страны обычно хорошо усваивают свой тяжелый опыт и почти никогда – опыт других стран, даже самых близких соседей. Однако очень хочется стать исключением из этого правила. Это в немалой степени зависит от нас самих, от нашей способности знать, что было, и предупреждать об этом власти.
3
См.: О пятилетием плане развития народного хозяйства СССР. М., 1928.
4
См.: Dakin D. Turgot and the Ancien Regime in France. N. Y.: Octagon Books, 1965. R 262.
5
Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. Подробнее о революционном экономическом кризисе см.: Экономика переходного периода. М.: ИЭППП, 1998. С. 17–30.
6
См.: Williamson J. In Search of a Manual Technopolis //The Political Economy of Policy Reform. Washington, DC: Institute for International Economic, 1994. P. 11.
7
См.: Fukuyama F. The End of History and the Last Man. L.: Penguin Boors, 1992.
8
См.: Kiguel М.А., Liviatan N. Lessons from the Heterodox Stabilization Programs. Washington, DC: The World Bank, 1991.
9
Примером такого рода формальных, некритических заимствований являются весьма популярные ссылки на опыт рыночных реформ КНР. Из того лишь факта, что обе страны встали на путь реформ, находясь в условиях ортодоксального коммунистического режима, делаются далеко идущие выводы. Однако упускаются из виду важные социально-экономические реалии: уровень развития (ВНП на душу населения), бюджетная нагрузка в ВВП, уровень социальных расходов, социальная структура населения, уровень образования. По всем этим параметрам КНР действительно напоминает СССР, но только СССР конца 1920-х годов, т. е. как раз того времени, когда делался выбор между бухаринской (рыночной) и сталинской моделями индустриализации. Понятно, что СССР середины 1980-х годов радикальным образом отличался от Китая Дэн Сяопина.
10
См.: Стиглиц Дж. Многообразные инструменты шире цели: движение к поствашингтонскому консенсусу//Вопросы экономики. 1998. № 8.
11
См., например: Achley М. Financial and Commercial Policy under the Cromwellian Protectorate. L., 1962; Aftalion F The French Revolution: An Economic Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; May В., Стародубровская И. Экономические закономерности революционного процесса //Вопросы экономики. 1998. № 4 (наст, издание: Т. 5. Кн. 1. С. 467–494).
12
См.: The Macroeconomics of Populism in America / R. Dornbusch, S. Edwards (eds.). Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1991.