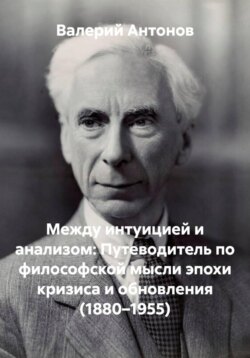Читать книгу Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955) - Валерий Антонов - Страница 3
Эмпирики, агностики, позитивисты.
ОглавлениеАналитическое изложение ключевых идей Александра Бэна и их места в эволюции психологической мысли позволяет реконструировать внутреннюю логику его системы, выявив её современное звучание. Бэн, будучи фигурой, связанной с традицией ассоцианистской психологии и эмпирической философией Милля, тем не менее предпринял попытку её радикального преобразования, стремясь утвердить психологию как самостоятельную эмпирическую науку. Его центральным устремлением было не просто применение ассоциативных принципов к решению философских задач, а построение целостной психологии, опирающейся на физиологические основания, что сближало его с наследием Гартли. Однако Бэн существенно расширил предмет исследования, включив в него эмоции и волю, что отражено в структуре его основных трудов «Чувства и интеллект» и «Эмоции и воля». Этот сдвиг позволил преодолеть редукционистскую тенденцию раннего ассоцианизма, сводившего психику к механическому комбинированию атомарных ощущений.
Ключевым пунктом отхода Бэна от классического эмпиризма стала его концепция активности субъекта. В полемике с пассивной моделью восприятия, где сознание предстаёт лишь рецептором внешних впечатлений, Бэн выдвинул тезис об изначальной активности организма. Он утверждал, что ощущение никогда не бывает полностью пассивным и всегда сопряжено с движением или готовностью к нему. Именно через мышечное усилие, через чувство сопротивления при контакте с объектом формируется базовое представление о внешнем мире. Таким образом, внешность объектов конституируется не как совокупность возможных ощущений, как у Милля, а как совокупность возможных активных реакций и проявлений энергии со стороны воспринимающего существа. Эта идея придавала восприятию телесно-деятельностный характер, предвосхищая позднейшие прагматистские и феноменологические подходы.
Из этого понимания активности естественным образом вытекала и его теория веры, тесно увязанная с действием. Вера для Бэна лишена смысла вне связи с поведением, направленным на достижение цели. Он определял первичную доверчивость как надежду на будущее событие, позволяющую упорствовать в действии. При этом Бэн постулировал существование врождённого импульса к вере, проистекающего из естественной активности органической системы и пропорционального «силе воли». Опыт, таким образом, не порождает веру из ничего, а направляет и конкретизирует этот изначальный импульс, закрепляя те убеждения, которые получают практическое подтверждение. Тем самым, Бэн соединял эмпирический принцип – роль повторяющегося непротиворечивого опыта – с признанием априорной активности волевого субъекта.
Философская позиция Бэна, однако, остаётся амбивалентной с точки зрения метафизических импликаций. С одной стороны, его упор на физиологические корреляты психических процессов может быть истолкован как движение в сторону материализма или, по крайней мере, психофизического параллелизма. С другой – его замечания о внешнем мире как «полезной фикции», выходящей за пределы непосредственного опыта, отдают дань агностицизму и субъективному идеализму. Сам Бэн, судя по всему, стремился избегать метафизических спекуляций, концентрируясь на эмпирическом и генетическом описании психических явлений, хотя его концептуальные построения неизбежно несли в себе философское содержание.
Наследие Бэна, продолженное в работах Джеймса Салли, сохраняло влияние, но одновременно содержало в себе семена преодоления старой ассоцианистской парадигмы. Акцент на воле, активности и целостности психической жизни подрывал основания атомистического ассоцианизма, подготовив почву для критики со стороны таких мыслителей, как Джеймс Уорд, и для появления новых школ – функционализма, гештальтпсихологии и других. Хотя ассоциация идей осталась признанным феноменом психики, она перестала рассматриваться как универсальный объяснительный принцип. Таким образом, вклад Александра Бэна заключается в переходе от механистической модели сознания к динамической, где центральное место занимает действующий, стремящийся и верящий субъект, что придаёт его идеям непреходящее современное звучание в контексте эволюции психологии от пассивного эмпиризма к активным моделям психики.
1. Александр Бэн и ассоцианистская психология.
Анализ эволюции ассоцианистской психологии в трудах Александра Бэна выявляет системную трансформацию этой традиции, где формальное следование принципу ассоциации идей наполняется принципиально новым содержанием. Бэн, формально находясь в русле эмпирической философии и сотрудничая с Дж. С. Миллем, осуществляет ревизию её исходных постулатов, стремясь конституировать психологию как автономную эмпирическую науку, основанную на синтезе психического и физиологического. Его программа, выраженная в структуре основных трудов, сознательно расширяет предмет психологии за пределы интеллекта и ощущений к эмоциям и воле, что означало переход от статичного, рецептивного понимания сознания к динамической модели, центрированной вокруг активности организма.
Ключевым пунктом разрыва Бэна с классическим эмпиризмом стала его концепция перцептивного опыта, в котором пассивная рецепция впечатлений заменяется идеей изначальной моторной активности. Сознание, по Бэну, не является чистым tabula rasa, ожидающим внешних воздействий; оно изначально заряжено «склонностью к движению», предшествующей сенсорному стимулу. Чувство внешней реальности рождается не из последовательности ощущений, а из акта мышечного усилия и встреченного сопротивления. Таким образом, внешний мир конституируется для субъекта не как феноменальная совокупность возможных ощущений, а как поле потенциальных действий и реакций. Этот телеологический и прагматический поворот переопределяет саму эпистемологическую проблему: знание о мире укоренено в телесном взаимодействии с ним, а не в его созерцании.
Из этой онтологии активности вытекает и новаторская теория веры, понимаемой как функциональный элемент поведения, направленного на достижение цели. Вера, лишённая связи с действием, для Бэна бессмысленна. Однако, в отличие от строго эмпирического выведения веры из повторяющегося опыта, Бэн постулирует существование первичного, спонтанного импульса доверчивости, пропорционального силе воли и органической активности субъекта. Опыт не порождает веру, а канализирует и формирует этот врождённый импульс, отсекая несостоятельные ожидания через механизм непротиворечивого практического подтверждения. Тем самым, психологический процесс формирования убеждений предстаёт как диалектика внутренней активности и внешнего опыта, где априорная волевая энергия встречается с апостериорной проверкой реальностью.
Философская позиция Бэна, сознательно избегающая метафизических крайностей, демонстрирует методологический агностицизм. С одной стороны, его постоянный акцент на физиологических коррелятах психического указывает на натуралистическую установку, близкую материалистической редукции. С другой – его трактовка внешнего мира как «полезной фикции», выходящей за пределы имманентного опыта, резонирует с кантианскими мотивами и субъективным идеализмом. Однако эта кажущаяся противоречивость снимается, если рассматривать Бэна прежде всего как методолога, стремящегося построить работающую эмпирико-генетическую модель психики без окончательных онтологических обязательств. Его агностицизм – не слабость, а осознанная методологическая позиция, отводящая метафизике роль за пределами позитивной науки.
Наследие Бэна, развитое его последователем Джеймсом Салли, стало переходным звеном, исчерпавшим потенциал классического ассоцианизма изнутри. Интеграция волевого и эмоционального начал, телесной активности и прагматического критерия веры подрывала основы атомистической и механистической модели психики. Хотя ассоциация как феномен сохранила своё значение, её статус универсального объяснительного принципа был утрачен. Таким образом, вклад Бэна состоит не в простом расширении ассоцианистской доктрины, а в её имплозивном развитии, которое через акцент на целостном, действующем и стремящемся субъекте подготовило почву для последующих революций в психологии – от функционализма и прагматизма до феноменологических и экзистенциальных подходов, сделавших активность, интенциональность и воплощённость центральными темами современной науки о сознании.
2. Утилитаризм по Бэну.
Этическая концепция Александра Бэна представляет собой переосмысление утилитаристской доктрины через призму его эмпирической и психологической методологии. Он принимает принцип полезности как ключевой внешний стандарт, противопоставляя его теории нравственного чувства и грубому психологическому эгоизму, признавая при этом роль симпатии и общественного блага. Однако Бэн отказывается рассматривать утилитаризм как исчерпывающее описание реально существующего морального сознания. С его точки зрения, этическая теория должна объяснять не только нормативный идеал, но и фактическое многообразие моральных практик, включая их иррациональные и традиционные элементы.
Бэн вносит в утилитаризм принципиальные корректировки, ослабляющие его «простую целостность», но, по его мнению, необходимые для адекватного описания моральной реальности. Он отмечает, что сфера обязательного долга не тождественна всей сфере полезного: множество общественно полезных действий остаются на уровне личного усмотрения. Кроме того, реально действующие моральные нормы часто укоренены не в расчёте последствий, а в чувстве, привычке или традиции, которая сама может быть наследием прошлой полезности или устаревшего «чувства». Таким образом, принцип полезности, хотя и существенен, не является единственным двигателем морали; его необходимо дополнить психологическим и социологическим анализом фактических мотиваций.
Центральным пунктом психологизации этики у Бэна становится генетическое объяснение совести и чувства долга. Он решительно отвергает концепцию совести как врождённой и автономной способности, предлагая вместо этого модель интернализации внешнего авторитета. Совесть, по Бэну, формируется как «внутренняя копия» управления извне – сначала родительского, затем общественного. Чувство долга возникает через ассоциативную связь между запретным действием и ожиданием санкции. Этот подход смещает фокус с внутреннего морального закона на механизмы социального conditioning, предвосхищая later социологические и поведенческие трактовки морали.
При этом Бэн сталкивается с внутренним напряжением своей теории. С одной стороны, он описывает мораль как продукт социального давления и авторитета, где норма определяется как «законы существующего общества», санкционированные сообществом. С другой – он признаёт роль выдающихся личностей, способных реформировать общественные нравы. Однако он не разрабатывает последовательного объяснения источника этой реформаторской способности, которая, казалось бы, выходит за рамки простой интернализации существующих норм. Таким образом, в его системе остаётся неразрешённым противоречие между конформистской «закрытой» моралью, формируемой обществом, и творческой «открытой» моралью, способной этот авторитет преодолевать.
В итоге, этика Бэна представляет собой своеобразный позитивистский проект в моральной философии: попытку объяснить мораль как эмпирический феномен через психологические механизмы (ассоциация, интернализация) и социальные факторы (авторитет, традиция). При этом его подход несёт в себе релятивистские импликации, поскольку моральная норма оказывается привязанной к конкретному общественному consensus. Хотя Бэн и сохраняет утилитаристский критерий полезности как рациональный ориентир, его основное внимание направлено на дескриптивный анализ того, как мораль реально работает в человеческой психике и социуме, что делает его концепцию важным переходным звеном между классическим утилитаризмом и последующими натуралистическими и социологическими теориями морали.
3. Соединение утилитаризма и интуиционизма у Генри Сиджвика.
Трансформация утилитаристской этики в трудах Генри Сиджвика представляет собой попытку её систематического обоснования через синтез с интуиционизмом, что радикально меняет её эпистемологический статус. Отталкиваясь от утилитаризма Милля, Сиджвик быстро осознаёт его ключевое слабое место – логическую непереходимость от психологического гедонизма (каждый фактически ищет собственного счастья) к этическому гедонизму (каждый должен искать всеобщего счастья). Понимая, что факт желания не может обосновать долг, и следуя юмовскому разделению «есть» и «должен», он приходит к выводу о необходимости иного, философского, а не психологического, фундамента для морали. Таким основанием для него становятся самоочевидные моральные аксиомы, постигаемые интуитивно.
Сиджвик формулирует три таких фундаментальных принципа, составляющих каркас его системы. Принцип благоразумия (разумного эгоизма) утверждает рациональную обязанность индивида предпочитать большее будущее благо меньшему настоящему. Принцип справедливости, или беспристрастности, требует, чтобы при отсутствии релевантных различий мы относились к другим так, как полагаем правильным, чтобы они относились к нам. Принцип рациональной благожелательности предписывает стремиться к общему благу, исходя из того, что с точки зрения Вселенной благо одного индивида не важнее блага другого. Эти принципы, интуитивно очевидные для разума, по мысли Сиджвика, имплицитно присутствуют в морали здравого смысла.
Затем Сиджвик осуществляет синтез: принцип благоразумия обязывает искать собственное благо, а принцип благожелательности – благо других. Их логическое согласование ведёт к предписанию стремиться к благу вообще, то есть к общему благу, частью которого является и собственное благо индивида. Если под благом понимать счастье в гедонистическом ключе (хотя и очищенном от грубого чувственного понимания и прямой погони за удовольствием), то конечным нормативным выводом оказывается универсалистский гедонизм, или утилитаризм. Таким образом, утилитаризм оказывается не исходным постулатом, а конечным результатом строгого применения интуиционистского метода к анализу и систематизации морального сознания. Сиджвик определяет свою позицию как «утилитаризм на интуиционистской основе».
Этот синтез, однако, не разрешает глубинное напряжение, которое сам Сиджвик честно признаёт, – «дуализм практического разума». Противоречие между обязанностью следовать собственному благу (разумный эгоизм) и обязанностью следовать общему благу (благожелательность) остаётся в его системе не снятым окончательно. В земном, посюстороннем контексте эти два императива могут вступать в конфликт, не разрешимый без привлечения теологических предпосылок о божественном воздаянии, гарантирующем гармонию личного и общего счастья, чего Сиджвик как философ-рационалист сделать не готов.
С методологической точки зрения вклад Сиджвика имеет прогностическое значение. Его тщательный анализ, прояснение и систематизация моральных понятий здравого смысла, стремление к концептуальной ясности и выявлению лежащих в основе аксиом предвосхищают подходы аналитической философии XX века. Хотя его апелляция к самоочевидным интуициям может казаться уязвимой, его работа по структурированию моральной аргументации и выявлению её скрытых предпосылок устанавливает новый стандарт строгости в этике. Таким образом, Сиджвик не просто модифицирует утилитаризм, а радикально меняет способ его обоснования, переводя этику из плоскости психологической и социальной детерминации в плоскость рациональной реконструкции и систематического анализа фундаментальных принципов практического разума.
4. Чарльз Дарвин и философия эволюции.
Проникновение эволюционной идеи в эмпиристскую мысль второй половины XIX века ознаменовало собой глубокий концептуальный сдвиг, хотя этот процесс был постепенным и не имел чёткой хронологической границы. Если традиционный эмпиризм, ассоцианистская психология и утилитаризм укоренены в интеллектуальном ландшафте XVIII столетия, то теория эволюции привнесла новое, историческое и процессуальное измерение в понимание природы, человека и общества. При этом важно отметить, что сама идея биологического развития не была новинкой XIX века – её спекулятивные версии возникали ещё в античности, а в Новое время её разрабатывали такие мыслители, как Бюффон и Ламарк. Однако именно работы Чарльза Дарвина придали ей статус научно обоснованной теории, оказавшей беспрецедентное воздействие на философский дискурс.
Дарвин, будучи в первую очередь натуралистом, а не философом, сосредоточился на эмпирическом обосновании механизма эволюции – естественного отбора, основанного на трёх взаимосвязанных факторах: наследственной изменчивости, борьбе за существование и выживании наиболее приспособленных. Его ключевой вклад состоял не в изобретении идеи эволюции, а в предложении убедительного и материалистического объяснительного принципа, который делал ненужным апелляцию к разумному замыслу при объяснении адаптации видов к среде. Этот механизм, одновременно и простой, и мощный, радикально дестабилизировал телеологические представления о природе. Как отмечал Т.Г. Гексли, дарвинизм наносил «смертельный удар» обыденной телеологии, поскольку адаптация возникала не как реализация предсущей цели, а как статистический итог случайных вариаций и безличного отбора.
Философское значение дарвинизма выходило далеко за рамки биологии. Он предлагал новую, нефундаменталистскую модель объяснения сложности и порядка, основанную на историческом процессе, а не на вневременных сущностях или предначертанных планах. Эта модель обладала огромным объяснительным потенциалом для переосмысления человека и его места в природе. В «Происхождении человека» Дарвин прямо применял эволюционный подход к морали, трактуя её как развитие социальных инстинктов, закреплённых в силу своей полезности для выживания группы. Таким образом, этические нормы лишались своего априорного или богооткровенного статуса и представали как продукт естественной истории человеческого вида.
Первоначальный конфликт между дарвинизмом и религиозным мировоззрением, столь острый в XIX веке, со временем значительно смягчился. Эволюционная идея была ассимилирована даже в рамках некоторых теистических и спиритуалистических систем, как это видно на примере творческой эволюции Бергсона или тейярдизма. Однако в момент своего появления дарвинизм воспринимался как вызов не столько конкретным догматам, сколько самой антропоцентрической и телеологической картине мира. Его влияние на философию было опосредованным, но глубоким: он способствовал натурализации философской антропологии, стимулировал развитие прагматизма с его акцентом на адаптивную функцию знания и подпитывал различные формы научного материализма.
Примечательно, что непосредственное распространение и философское осмысление эволюционной идеи в Британии во многом осуществлялось не академическими философами, сохранявшими сдержанную дистанцию, а учёными-натуралистами и вольными мыслителями вроде Герберта Спенсера. Дарвин же, избегая прямой философской спекуляции и теологических дебатов, тем не менее, своими трудами создал новый интеллектуальный контекст, в котором любое серьёзное размышление о человеке, познании, морали и обществе должно было так или иначе учитывать их историческое, процессуальное и естественное происхождение. Тем самым он совершил тихую, но радикальную революцию, последствия которой для философии оказались не менее значимыми, чем для естествознания.
5. Т. Г. Гексли: эволюция, этика и агностицизм.
Томас Генри Гексли представляет собой ключевую фигуру на пересечении научного эволюционизма и философской рефлексии, чья позиция отмечена глубоко оригинальным и, на первый взгляд, противоречивым синтезом. Приняв и активно пропагандируя дарвиновскую теорию эволюции как наиболее состоятельную научную гипотезу, основанную на строго индуктивном методе, Гексли одновременно предпринял её радикальное этическое ограничение, отделив сферу человеческой морали от слепого действия «космического процесса». Его мысль движется в рамках фундаментального дуализма: если природа управляется безличным механизмом борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных, то человеческое общество конституирует себя через противоположный «этический процесс», основанный на симпатии, взаимопомощи и сдерживании эгоистических инстинктов. Таким образом, прогресс цивилизации понимается не как продолжение природной эволюции, а как сознательное сопротивление её принципам, как наложение культурных ограничений на естественный отбор внутри социума.
Эта антитеза природы и культуры, однако, не основывается у Гексли на признании духовной или сверхъестественной природы человека. Он твёрдо придерживался эпифеноменалистической концепции сознания как функции высокоорганизованной материи мозга, что сближало его с материалистическим детерминизмом. Тем не менее, Гексли решительно отказывался от ярлыка материалиста, апеллируя к гносеологическим аргументам, восходящим к Декарту и Беркли. Он утверждал, что единственной непосредственной достоверностью обладают наши ментальные состояния, тогда материальный мир предстаёт лишь как вероятная гипотеза. Эта позиция, сочетающая натуралистическую онтологию сознания с феноменалистской гносеологией, может казаться непоследовательной, но она отражает его стремление избежать как редукционистского материализма, так и спекулятивного идеализма.
Аналогичный методологический скепсис определяет и религиозную позицию Гексли, который ввёл в широкий оборот термин «агностицизм». Агностицизм для него – не слабая форма атеизма, а принципиальный отказ от вынесения суждений о том, что принципиально непознаваемо и лежит за пределами научной верификации. Этот подход распространяется как на вопросы о существовании Бога, так и на конечные метафизические основания реальности. Таким образом, Гексли совмещает научный натурализм в объяснении эмпирического мира с последовательным воздержанием от любых догматических утверждений о трансцендентном, что отражает характерное для викторианской интеллектуальной культуры стремление к интеллектуальной честности и неприязнь к крайним, всеобъемлющим системам.
Вклад Гексли, при всей возможной непроработанности его философских построений, заключается, таким образом, в попытке наметить третий путь между воинствующим материализмом и религиозной ортодоксией, а также в жёстком разведении описательного закона природы (космический процесс) и предписывающей нормы культуры (этический процесс). Эта дихотомия стала важным интеллектуальным ресурсом для последующих дискуссий о природе морали в постведаровском мире, подчёркивая, что факт эволюционного происхождения человека не только не предписывает конкретных этических норм, но, напротив, требует их сознательного конструирования в противовес слепым силам природы.
6. Научный материализм и агностицизм: Джон Тиндаль и Лесли Стивен.
В рамках викторианского интеллектуального ландшафта Джон Тиндаль и Лесли Стивен олицетворяют две версии сциентистской позиции, тяготеющей к научному материализму и агностицизму, но расходящиеся в своих философских импликациях и степени системности.
Джон Тиндаль отстаивал «научный материализм» как мировоззрение, выводящее свои основания из методологических принципов естествознания. Его центральный тезис заключался в корреляции каждого ментального состояния с физическим процессом в мозге, что, по его мнению, и устанавливало позицию материалиста. Однако, в отличие от вульгарного материализма, Тиндаль признавал «непреодолимую пропасть» между субъективным опытом и объективными процессами, что делало природу связи между ними тайной. Эта позиция была тесно связана с эволюционным взглядом на материю как на носительницу потенций жизни и сознания, что требовало пересмотра её классического понимания как инертной субстанции. Агностицизм Тиндаля был не просто воздержанием от суждения, а позитивистским утверждением о компетентности науки как единственного источника знания: проблемы, неразрешимые научным методом, объявлялись принципиально неразрешимыми. Религиозный опыт допускался лишь как субъективное переживание, лишённое познавательной ценности. Таким образом, его мировоззрение предвосхищало логический позитивизм с его верификационным критерием и редукцией метафизических вопросов к бессмыслице.
Лесли Стивен, будучи историком идей, развивал агностицизм скорее как общую интеллектуальную установку, чем как стройную теорию. Он отстаивал «методологический материализм» как необходимую перспективу научного исследования, имеющего дело лишь с чувственно воспринимаемым. При этом он отвергал как материалистический, так и спиритуалистический догматизм относительно «последней реальности», считая область за феноменальным миром принципиально непознаваемой – «пустотой», обозначаемой метафизическими терминами вроде «Абсолюта». Его агностицизм был менее системен и более интуитивен: даже при решении всех научных проблем вселенная сохраняет характер неразрешимой тайны. В этике Стивен, в отличие от Гексли, стремился дать эволюционное обоснование морали, рассматривая её как социальный адаптивный механизм: моральные нормы подвержены естественному отбору по критерию повышения жизнеспособности социального организма.
Таким образом, если Тиндаль представлял собой догматизирующий сциентизм, утверждающий всеобъемлющую компетенцию науки и сводящий реальность к её объективной, материальной проекции, то Стивен олицетворял скептический агностицизм, сочетающий методологический натурализм с отказом от построения окончательной онтологии. Оба, однако, разделяли убеждение в автономии моральных ценностей от религиозных догм, хотя и предлагали разные – позитивистско-материалистическую и эволюционно-функциональную – модели их объяснения. Их позиции отражают характерный для позднего викторианства поиск светского, научно ориентированного мировоззрения, пытающегося найти баланс между радикальным эмпиризмом и признанием границ человеческого познания.
7. Дж. Дж. Романес и религия.
Интеллектуальная траектория Джорджа Джона Романеса представляет собой уникальный пример сложного и нелинейного диалога между эволюционной наукой и религиозной верой в викторианскую эпоху. Его путь от ортодоксальной веры через радикальный агностицизм и пантеизм к симпатизирующему, но незавершённому теизму отражает глубинные методологические и экзистенциальные трудности, возникшие при попытке согласовать натуралистическое мировоззрение с духовными исканиями.
Начальный, агностический этап (зафиксированный в «Откровенном рассмотрении теизма», 1878) отмечен строгим сциентизмом: Романес констатирует отсутствие эмпирических доказательств существования Бога, приходя к выводу, что вопрос о божественном существовании остаётся открытым, но неразрешимым для разума, опирающегося на научные данные. Однако впоследствии его позиция претерпевает существенную эволюцию. В своих поздних работах («Мысли о религии», 1895) он пересматривает роль науки, видя в ней не только разрушителя наивных телеологических аргументов, но и косвенного союзника религии. Наука, доказывая «единообразие естественной причинности», раскрывает вселенную как упорядоченную систему, что может служить эмпирической основой для теистической интерпретации мира как выражения божественной воли.
Ключевым поворотом становится признание Романесом ограниченности чисто спекулятивного разума и необходимости иного, целостного подхода к религиозной истине. Он допускает существование особого «органа духовного восприятия», действующего в религиозном сознании, и утверждает, что в поиске Бога должны объединиться «сердце, воля и разум». Таким образом, доступ к религиозной истине возможен не через пассивное умозрение, а через активный жизненный выбор – через действие в соответствии с верой, которое впоследствии может получить верификацию в виде «непосредственного духовного прозрения». Эта прагматическая по духу идея предвосхищает позднейшие концепции религиозного познания как укоренённого в экзистенциальной вовлечённости.
Однако, несмотря на этот концептуальный сдвиг, Романес так и не совершил решающего личного шага к вере. Он признавал, что окончательный выбор в пользу религиозного мировоззрения требует «сурового усилия воли», на которое сам он оказался неспособен. Поэтому его поздняя позиция остаётся по существу агностицизмом нового типа – не воинствующим отрицанием, а открытым, симпатизирующим сомнением. Он отказывается отвергать религиозную возможность a priori и настаивает на том, что риск веры не является безрассудным, поскольку вера обладает потенциально собственным, имманентным способом верификации, лежащим вне компетенции науки. Таким образом, Романес занимает промежуточную позицию между радикальным сциентизмом Тиндаля и уверенной религиозностью: он признаёт рациональную оправданность религиозного взгляда на мир, но экзистенциально остаётся на пороге веры, не переступая его. Его интеллектуальная эволюция демонстрирует, как эволюционная парадигма, разрушившая традиционные основания теизма, одновременно могла стимулировать поиск более сложных, нередукционистских форм религиозности, основанных на интеграции разума, опыта и волевого выбора.
8. Позитивизм: контианские группы, Дж. Г. Льюис, У. К. Клиффорд, К. Пирсон.
Развитие позитивистской мысли в Великобритании после Конта демонстрирует её внутреннюю дифференциацию: от ритуализированных контианских групп до независимых учёных, трансформировавших позитивизм в радикальную феноменалистическую философию науки.
Организованный позитивизм, представленный Ричардом Конгривом и его кругом (Джон Генри Бриджес, Фредерик Харрисон), сосредоточился на популяризации и культовом воплощении контовской «религии человечества», включая создание храмов и ритуальных практик. Этот путь, однако, оставался маргинальным, вызывая ироническую критику со стороны таких фигур, как Гексли.
Более значимым было влияние позитивистской методологии на независимых мыслителей. Джордж Генри Льюис, отойдя от догм Конта под влиянием Спенсера, ввёл важное различие между «результирующими» и «эмерджентными» феноменами, заложив терминологическую основу для будущих философских дискуссий о природе сложных систем.
Наиболее оригинальные разработки принадлежали учёным-математикам. Уильям Кингдон Клиффорд предложил теорию «ментальной материи» (mind-stuff) как решение психофизической проблемы. Эта панпсихистская модель, утверждающая соответствие психического и физического аспектов у каждого элемента реальности, позволяла избегать скачка от материи к сознанию, объясняя последнее как эмерджентное свойство определённой организации «ментальной материи». В этике Клиффорд развивал идею «племенного “я”», рассматривая мораль как подчинение личных интересов выживанию и прогрессу социального организма, что предвосхищало бергсоновскую концепцию «закрытой морали». Его воинствующий антиклерикализм и пропаганда «религии человечества» сближали его с традицией Французского Просвещения.
Карл Пирсон систематизировал позитивистский подход в философии науки. Его феноменализм, восходящий к Юму и Миллю, сводил основу знания к ощущениям, а физические объекты и научные сущности (вроде атомов) трактовал как «ментальные разработки» – конструкты, создаваемые для экономичного описания и предсказания чувственного опыта. Наука, по Пирсону, есть классификация фактов (ощущений) и установление между ними отношений последовательности. Метафизику он отвергал как замаскированную поэзию, лишённую познавательной ценности. Эта позиция, близкая воззрениям Эрнста Маха (который посвятил Пирсону свою работу), предвосхищала логический позитивизм XX века с его верификационизмом и критикой метафизики. Однако радикальный феноменализм Пирсона приводил к парадоксальному заключению: наука, призванная описывать мир, в итоге имеет дело лишь с содержаниями сознания, что ставило под вопрос существование независимой от наблюдателя реальности.
Таким образом, британский позитивизм эволюционировал от социально-религиозного проекта Конта к строгой феноменалистической и инструменталистской философии науки, где знание сводилось к организации чувственного опыта, а научные теории – к полезным инструментам для предсказания и экономии мышления. Этот путь демонстрирует внутреннюю логику эмпиризма, последовательный радикализм которого ведёт к стиранию границы между фактом и ощущением, между миром и его ментальной репрезентацией.
9. Б. Кидд; заключение.
Вообще говоря, можно сказать, что мыслители, упомянутые в этой главе, выражали живое признание роли, которую научный метод сыграл в огромном продвижении человеческого знания о мире. И понятно, что такое признание сопровождалось убеждением, что научный метод является единственным средством приобретения чего-либо, что можно было бы назвать знанием в собственном смысле. Наука, думали они, непрерывно расширяет границы человеческого знания; и если есть что-то, находящееся за пределами досягаемости науки, то оно непознаваемо. Метафизика и теология претендуют на то, чтобы делать истинные утверждения о метафеноменальном; но их притязания ложны.
Другими словами, продвижение подлинно научной точки зрения неизбежно сопровождается продвижением агностицизма. Религиозная вера принадлежит детству человеческой расы, а не действительно взрослому уму. В самом деле, мы не можем доказать, что не существует реальности за пределами феноменов, отношения между которыми изучает учёный. Наука имеет дело с описаниями, а не с окончательными объяснениями. И, насколько нам известно, возможно, такое объяснение существует. Фактически, чем больше феномены сводятся к ощущениям или чувственным впечатлениям, тем труднее избежать понятия метафеноменальной реальности. Но в любом случае такая реальность не может быть познана. И взрослый ум просто ограничивается принятием этого факта и объятием агностицизма.
С Романесом, правда, агностицизм стал означать нечто гораздо большее, чем просто формальное признание невозможности доказать несуществование Бога. Но мыслители более позитивистского склада лишили религию, в том что касается взрослого человека, её интеллектуального содержания. То есть религия должна перестать верить в истинность предложений о Боге. Религия, если взрослый ум способен её сохранить, должна быть сведена к эмоциональному элементу. Но эмоциональная установка должна относиться к космосу как объекту космического чувства или к человечеству, как в так называемой «религии человечества». В конечном итоге эмоциональный элемент религии отделяется от понятия Бога и привязывается к чему-либо ещё, а традиционная религия есть нечто, что должно быть оставлено позади по мере продвижения научного знания.
Таким образом, можно сказать, что большинство мыслителей, рассмотренных в этой главе, были предшественниками так называемых современных научных гуманистов, которые считают религиозную веру лишённой рациональной поддержки и склонны подчёркивать её якобы пагубное влияние на человеческий прогресс и мораль. Несомненно, убеждённость в том, что человек по сути обращён к Богу как к своей конечной цели, ставит вопрос об уместности использования термина «гуманизм» для атеистической философии человека. Но если рассматривать движение эволюции в человеческом обществе просто как прогресс в научном знании и в контроле человека над своей средой и самим собой, то вряд ли можно найти место для религии, поскольку она направляет внимание человека к трансцендентному. Сциентизм необходимо противопоставлен традиционной религии.
Совершенно иную точку зрения проповедовал Бенджамин Кидд (1858–1916), автор нескольких некогда популярных работ: «Социальная эволюция» (1894), «Принципы западной цивилизации» (1902) и «Наука о власти» (1918). По его мнению, естественный отбор в человеческом обществе имеет тенденцию благоприятствовать росту эмоциональных и аффективных качеств в человеке больше, чем интеллектуальных. И поскольку религия основана на эмоциональных аспектах человеческой природы, неудивительно, что религиозные люди имеют тенденцию преобладать в сообществах в борьбе за существование. Ибо религия способствует – так, как наука никогда не сможет, – альтруизму и преданности интересам сообщества. Особенно в своих этических аспектах религия есть наиболее мощная социальная сила. А высшим выражением религиозного сознания является христианство, на котором построена западная цивилизация.
Другими словами, Кидд принизил разум как созидательную силу в социальной эволюции и сделал акцент на чувстве. И поскольку он лишил религию её интеллектуального содержания и интерпретировал её как наиболее мощное выражение эмоционального аспекта человеческой природы, он считал её существенным фактором в человеческом прогрессе. Критически-враждебное отношение к религии со стороны разрушительного разума означало, таким образом, для него, атаку на прогресс.
Признание Киддом влияния религии на человеческую историю, несомненно, было полностью оправданным. Но важность, которую он придавал эмоциональным аспектам религии, сделала его уязвимым для возражения, что религиозные верования принадлежат к классу эмоционально поддерживаемых мифов, которые, действительно, оказывали большое влияние, но необходимость которых должна быть преодолена взрослым умом. Кидд, конечно, ответил бы, что такое возражение предполагает, будто прогресс обеспечивается осуществлением критического разума, тогда как, по его мнению, то, что обеспечивает прогресс, есть развитие эмоциональных и аффективных аспектов человека, а не развитие разума, более разрушительного, чем созидательного. Кажется очевидным, однако, что хотя эмоциональные аспекты человека существенны для его природы, разум должен сохранять контроль. И если религия не имеет никакого рационального обоснования, она по необходимости подозрительна. Кроме того, хотя влияние, оказываемое религиями на человеческие общества, есть несомненный факт, это никоим образом не означает, что такое влияние всегда было благотворным. Нам нужны рациональные принципы различения.
Однако существует важное убеждение, общее для Кидда и его критиков; а именно, убеждение, что в борьбе за существование принцип естественного отбора автоматически ведёт к прогрессу. И именно эта догма прогресса была поставлена под сомнение на протяжении XX века. Ввиду катаклизмов этого столетия мы едва ли можем сохранять безмятежную уверенность в благотворных эффектах коллективной эмоции. Но, равным образом, нам трудно предположить, что научный прогресс сам по себе является синонимом социального прогресса. Здесь лежит чрезвычайно важный вопрос о целях научного знания. И рассмотрение этого вопроса выводит нас за пределы сферы описательной науки. Все мы, несомненно, согласимся, что наука должна использоваться на службе человеку. Но возникает вопрос: как следует интерпретировать человека? И ответ на этот вопрос подразумевает метафизику, имплицитно или эксплицитно. В попытке уклониться от метафизики или исключить её часто можно обнаружить скрытую метафизическую гипотезу, неисповеданную теорию бытия. Иными словами, идея о том, что научный прогресс вытесняет метафизику, ошибочна. Метафизика просто появляется вновь в форме скрытых гипотез.
Глава V. Философия Герберта Спенсера.
1. Жизнь и труды.
Герберт Спенсер родился в Дерби 27 апреля 1820 года. Если Милль начал изучать греческий в три года, то Спенсер признаёт, что его познания в латыни и греческом к тринадцати годам не были выдающимися. Тем не менее, к шестнадцати он уже имел некоторые познания в математике; и после нескольких месяцев учительства в Дерби он поступил на работу инженером-строителем в железнодорожную компанию Birmingham Gloucester Railway. По завершении строительства линии в 1841 году Спенсер был уволен. «Я получил отставку с большой радостью», – пишет он в своём дневнике. Но хотя в 1843 году он переехал в Лондон, чтобы начать литературную карьеру, он ненадолго вернулся на службу в железнодорожные компании и даже попытал счастья как изобретатель.
В 1848 году Спенсер был назначен заместителем редактора «Экономиста» и завязал дружбу с Дж. Г. Льюисом, Гексли, Тиндалем и Джордж Элиот. Особенно с Льюисом он обсуждал теорию эволюции; среди анонимных статей, которые он писал для льюисовского «Лидера», есть одна под названием «Гипотеза развития», где излагалась, в ламаркианском духе, идея эволюции. В 1851 году он опубликовал «Социальную статику», а в 1855 году – «Основы психологии». К этому времени его состояние здоровья стало серьёзно беспокоить его, и он совершил несколько поездок во Францию, где познакомился с Огюстом Контом. Однако он всё же смог опубликовать сборник эссе в 1857 году.
В начале 1858 года Спенсер составил план «Системы синтетической философии», проспект которой, распространённый в 1860 году, предвещал десять томов. «Основные начала» появились одним томом в 1862 году, а «Основы биологии» – в двух томах в 1864–1867 годах. «Основы психологии», впервые опубликованные в одном томе в 1855 году, вышли в двух томах в 1870–1872 годах, тогда как три тома «Основ социологии» были опубликованы в 1876–1896 годах. «Данные этики» (1879) позже вошли вместе с двумя другими частями в первый том «Основ этики» (1892); второй том этого труда (1893) составила «Справедливость» (1891). Спенсер также опубликовал новые издания нескольких томов «Системы». Например, шестое издание «Основных начал» появилось в 1900 году, а исправленное и дополненное издание «Основ биологии» было опубликовано в 1898–1899 годах.
Система синтетической философии Спенсера представляет собой выдающееся достижение, осуществлённое несмотря на слабое здоровье и серьёзные финансовые трудности, по крайней мере в начале. Интеллектуально он был самоучкой, и написание его масштабного труда означало необходимость писать на множество тем, которые он фактически никогда систематически не изучал. Ему приходилось собирать данные из различных источников и затем интерпретировать их в свете идеи эволюции. Что касается истории философии, почти все его познания ограничивались источниками из вторых рук. Фактически, он не раз пытался читать первую «Критику» Канта; но, доходя до учения о субъективности пространства и времени, он бросал книгу. Он никогда не мог по-настоящему оценить или понять точки зрения, отличные от его собственной. Однако, если бы он не практиковал то, что можно назвать строгой экономией мышления, он, вероятно, никогда бы не завершил задачу, которую сам себе поставил.
Из остальных публикаций Спенсера можно упомянуть: «Воспитание» (1861), небольшую, но очень успешную книгу; «Человек против государства» (1884), энергичную полемику против того, что автор считал угрозой рабства; и посмертную «Автобиографию» (1904). В 1885 году Спенсер опубликовал в Америке «Природу и реальность религии», которая включала в себя полемику между самим Спенсером и позитивистом Фредериком Харрисоном. Однако книга была изъята из обращения, поскольку Харрисон протестовал против переиздания его статей без его разрешения, особенно ввиду того, что в томе была включена вводная статья некоего профессора Йоманса, поддерживающего позицию Спенсера.
За исключением членства в клубе «Атенеум» (1868), Спенсер систематически отвергал любые почести. Когда ему предложили занять кафедру ментальной философии и логики в Университетском колледже Лондона, он отказался; он также отказался от избрания в Королевское общество. Казалось, он хотел дать понять, что когда он действительно нуждался в таких предложениях, их не было, а когда они появились, они ему уже были не нужны, поскольку он уже обладал репутацией. Что касается почестей, предлагаемых правительством, его неприятие социальных отличий такого рода мешало ему принять их, не говоря уже о его раздражении из-за запоздалости предложений.
Спенсер умер 8 декабря 1903 года. К тому времени он был совершенно непопулярен в своей собственной стране, особенно из-за своей оппозиции Англо-бурской войне (1899–1902), которую он считал выражением духа милитаризма, столь ему ненавистного. За границей, однако, широко критиковали английское равнодушие к смерти одного из её главных деятелей. А в Италии парламент прервал заседание, получив известие о смерти Спенсера.
Интеллектуальная биография Герберта Спенсера неотделима от его грандиозного философского замысла. Рождённый в 1820 году в Дерби, он прошёл путь от инженера-железнодорожника, чьё формальное образование было фрагментарным, до одного из самых знаменитых мыслителей своего времени, воплотив в себе идеал самоучки. Его ранняя практическая работа сформировала приверженность системному, почти инженерному подходу к знанию, который позже нашёл выражение в «Системе синтетической философии». Уже в 1858 году, за год до публикации труда Дарвина, Спенсер набросал план этой всеобъемлющей системы, где универсальный закон эволюции, понимаемый как переход от простого и однородного к сложному и разнородному, становился ключом к объяснению всех феноменов – от образования галактик до развития общества и морали.
Осуществить этот монументальный проект ему удалось благодаря дисциплине и методологической «экономии мышления». Будучи интеллектуальным автодидактом, Спенсер сознательно избегал глубокого погружения в историю философии и чужие системы, что позволяло ему с непоколебимой последовательностью интерпретировать данные из биологии, психологии, социологии и этики исключительно сквозь призму эволюционной теории. Эта целеустремлённость, помноженная на постоянную борьбу со слабым здоровьем и финансовыми трудностями, привела к созданию десятитомного труда, ставшего апофеозом викторианской веры в научный прогресс. Его формула «выживание наиболее приспособленных», предвосхитившая дарвиновскую, обрела у него социологическое звучание, оправдывая принципы либерального индивидуализма и минимального государства, что ярко выражено в памфлете «Человек против государства».
Однако прижизненная мировая слава Спенсера сменилась в XX веке ощущением его глубокой устарелости. Его синтез, бывший символом оптимизма, не выдержал испытания катастрофами нового столетия, подорвавшими веру в автоматический прогресс. Современная философия и наука, склонные к специализации и критике «больших нарративов», отошли от его всеохватных амбиций. Тем не менее, фигура Спенсера сохраняет непреходящую историческую значимость как воплощение интеллектуального духа своей эпохи. Его попытка построения единой научной картины мира предвосхитила междисциплинарные поиски, а его социальная философия остаётся важной вехой в развитии либертарианской мысли. Непопулярный на родине в конце жизни из-за пацифистских взглядов, он, тем не менее, обеспечил себе место в ряду главных представителей философии XIX века, чьё наследие служит монументальным свидетельством веры в универсальную силу эволюционного закона.
2. Природа философии и её основные понятия и принципы.
Общие размышления Спенсера об отношении между философией и наукой весьма схожи с мыслями классических позитивистов, таких как Огюст Конт. Наука и философия имеют дело с феноменами, то есть с конечным, обусловленным и классифицируемым. Правда, по мнению Спенсера, феномены суть проявления в сознании Бесконечного, Безусловного Сущего. Но поскольку знание означает отношение и классификацию, тогда как Бесконечное, Безусловное Сущее по самой своей природе едино и не поддаётся классификации, утверждать, что такое Сущее выходит за пределы сферы феноменов, – значит утверждать, что оно выходит за пределы сферы познаваемого. Таким образом, философ не может изучать его лучше, чем учёный. Метафеноменальные или «первопричины» находятся вне досягаемости как философии, так и науки.
Тем не менее, если мы хотим провести различие между философией и наукой, мы не можем сделать это, ссылаясь только на их объекты, потому что обе деятельности занимаются феноменами. Необходимо обратиться к идее различных степеней обобщения. «Наука» – это имя, данное семье частных наук. И хотя всякая наука предполагает обобщение (это отличает её от беспорядочного знания отдельных фактов), даже её самые широкие обобщения являются частичными по сравнению с универсальными истинами философии, которые служат для объединения наук. «Истины философии, таким образом, находятся в том же отношении к высшим научным истинам, в каком каждая из последних находится к низшим научным истинам… Знание низшего типа – это необъединённое знание; наука – это частично объединённое знание; философия – это полностью объединённое знание».
Универсальные истины или максимальные обобщения, свойственные философии, могут рассматриваться либо сами по себе как «продукты исследования», составляя тогда общую философию, либо в соответствии с активной ролью, которую они играют в качестве «инструментов исследования»: то есть в качестве истин, в свете которых мы исследуем различные конкретные области феноменов, такие как данные этики и социологии. В таком случае мы говорим о специальной философии. «Основные начала» Спенсера посвящены общей философии, тогда как последующие тома «Системы» рассматривают различные части специальной философии.
Само по себе исследование Спенсера отношения между наукой и философией, основанное на идее степеней объединения, кажется, указывает на то, что, по его мнению, основные понятия философии выводятся путём обобщения из частных наук. Но это не совсем так. Ибо Спенсер настаивает, что существуют фундаментальные понятия и гипотезы, подразумеваемые в любом мышлении. Предположим, философ решает взять в качестве отправного пункта своих размышлений некий особый факт и воображает, что, поступая так, он не предполагает никакой гипотезы. На самом деле выбор особого факта предполагает существование других фактов, которые философ мог бы выбрать. Это, в свою очередь, подразумевает понятие существования, отличного от того, которое фактически утверждается. Кроме того, нельзя познать ни одну индивидуальную вещь иначе как через её сходство с другими вещами, как поддающуюся классификации в силу общего признака и как отличающуюся от других вещей. Короче говоря, выбор особого факта предполагает множество «неизвестных постулатов», которые в совокупности составляют набросок теории общей философии. «Развитый интеллект формируется на основе определённых организованных теорий и устоявшихся концепций, от которых он не может освободиться и без которых он не может сделать ни шагу вперёд, подобно тому как тело не может двигаться без помощи своих членов».
Нельзя сказать, что Спенсер полностью проясняет свою позицию. Ибо он говорит о «неявных гипотезах», «непроявленных данных», «неизвестных постулатах», «определённых организованных и устоявшихся концепциях» и «фундаментальных интуициях» так, как если бы значение таких фраз не нуждалось в дальнейшем разъяснении и было бы одинаковым для всех них. Ясно, однако, что он не претендует на кантианскую теорию априорного. Фундаментальные понятия и гипотезы имеют эмпирическое основание. И иногда Спенсер, кажется, ссылается на индивидуальный опыт или сознание. Он говорит, например, что «мы не можем не принять как истину вердикт сознания, который говорит нам, что определённые проявления равны другим, а некоторые отличны от других». Однако ситуация осложняется тем фактом, что Спенсер принимает идею относительного априорного, то есть понятий и гипотез, которые, с генетической точки зрения, являются продуктом накопленного опыта расы, но которые являются априорными по отношению к данному индивидуальному интеллекту в том смысле, что они пришли к нему с силой «интуиций».
Основные гипотезы процесса мышления должны быть временно приняты как бесспорные. Они могут быть оправданы или обрести значимость только через свои результаты, то есть показывая соответствие или согласованность между опытом, который логически можно было ожидать от таких гипотез, и опытом, который мы имеем в действительности. В самом деле, «полное утверждение согласованности оказывается тем же самым, что и полное объединение знания, цель философии». Таким образом, общая философия делает явными основные понятия и гипотезы, тогда как специальная философия показывает их соответствие реальным феноменам в различных областях или сферах опыта.
Согласно Спенсеру, «познавать – значит классифицировать, или схватывать сходное и отделять отличное». И поскольку сходство и различие суть отношения, мы можем сказать, что всякое мышление является реляционным, что «отношение есть универсальная форма мышления». Мы можем, однако, различать два типа отношений: последовательности и сосуществования. И каждый из них порождает абстрактную идею. «Абстракт всех последовательностей есть Время. Абстракт всех сосуществований есть Пространство». Время и пространство в действительности являются первоначальными формами сознания в абсолютном смысле. Но поскольку генерация таких идей происходит через организацию опыта, происходящую на протяжении всей эволюции интеллекта, они могут иметь характер относительного априорного в отношении данного индивидуального интеллекта.
Наше понятие Пространства по сути есть понятие ряда сосуществующих позиций, не оказывающих никакого сопротивления. И оно выводится путём абстракции из понятия Материи, которое в самом широком смысле понимается как ряд сосуществующих позиций, оказывающих сопротивление. В свою очередь, понятие Материи выводится из опыта силы. Ибо «определённые корреляции сил образуют всё содержание нашей идеи Материи». Подобным образом, хотя развитые понятия Движения включают в себя идеи Пространства, Времени и Материи, рудиментарное сознание Движения есть просто сознание «серии впечатлений силы».
Спенсер утверждает, однако, что психологический анализ понятий Времени, Пространства, Материи и Движения показывает, что все они основываются на опытах Силы. И вывод таков, что «мы приходим, наконец, к Силе как к последнему из последнего». Принцип сохранения материи на самом деле есть принцип сохранения силы. Подобным образом, все доказательства принципа непрерывности движения «подразумевают постулат, что количество Энергии постоянно», если под энергией понимать силу, которой обладает материя в движении. И мы приходим, наконец, к принципу постоянства Силы, «который, поскольку он является основой науки, не может быть сформулирован ею», а превосходит всякое доказательство; принцип, имеющий своим следствием постоянство закона – постоянство определённых отношений между силами.
Можно возразить, что такие принципы, как сохранение материи, принадлежат скорее науке, чем философии. Но Спенсер отвечает, что это «истины, которые объединяют конкретные феномены, принадлежащие всем областям Природы, и как таковые должны быть частью того всеобъемлющего представления о вещах, которое ищет философия». Кроме того, хотя слово Сила обычно означает «сознание мышечного напряжения», чувство усилия, которое мы испытываем, когда приводим что-либо в движение или противодействуем определённому давлению, есть символ «абсолютной силы». И когда мы говорим о постоянстве Силы, «мы в действительности понимаем постоянство Причины, которая превосходит наше знание и нашу концепцию». Как можно осмысленно утверждать постоянство непознаваемой реальности, возможно, не сразу очевидно. Но если утверждение о постоянстве Силы действительно означает то, что говорит Спенсер, оно явно становится философским принципом, независимо даже от того факта, что его характер универсальной истины позволил бы, в любом случае, причислить его к философским истинам согласно спенсеровскому исследованию отношения между философией и наукой.
3. Общий закон эволюции: чередование эволюции и диссолюции.
Вышеупомянутые общие принципы, такие как сохранение материи, непрерывность движения и постоянство силы, являются компонентами синтеза, которого стремится достичь философия, однако, взятые вместе, они ещё не составляют такого синтеза. Ибо требуется формула или закон, который конкретизирует ход трансформаций, претерпеваемых материей и движением, и таким образом послужит для объединения всех процессов изменения, исследуемых различными частными науками. То есть, исходя из того факта, что не существует абсолютного покоя или подвижности, но каждый объект постоянно подвергается изменению, либо потому что он получает или теряет движение, либо потому что меняется способ связи его частей, мы должны утверждать общий закон непрерывного перераспределения материи и движения.
Спенсер находит то, что ищет, в том, что он называет попеременно «формулой», «законом» или «определением» эволюции. «Эволюция есть интеграция материи и сопутствующая дисперсия движения, в течение которых материя переходит из относительно неопределённой и несвязанной однородности в относительно определённую и связанную разнородность, и в течение которых удерживаемое движение претерпевает параллельную трансформацию». Этот закон может быть установлен дедуктивно, путём вывода из постоянства силы. Он может также быть установлен или подтверждён индуктивно. Ибо если мы рассмотрим развитие солнечных систем из туманности, или развитие живых тел высшей организации и сложности из примитивных организмов, или развитие психологической жизни человека, или развитие языка, или эволюцию социальной организации, – везде мы находим переход от относительно неопределённого к относительно определённому, от несвязанности к связанности, наряду с движением прогрессивной дифференциации, движением от относительной однородности к относительной разнородности. Например, в эволюции живого тела мы видим прогрессирующую дифференциацию структуры и функции.
Но это лишь часть объяснения. Ибо интеграция материи сопровождается дисперсией движения. И эволюционный процесс стремится к состоянию равновесия, к балансу сил, который достигается через диссолюцию или дезинтеграцию. Например, человеческое тело рассеивает и теряет энергию, умирает и распадается; всякое общество теряет свою силу и приходит в упадок; и тепло Солнца постепенно рассеивается.
Спенсер остерегается утверждать, что мы можем правомерно распространить то, что верно для относительно замкнутой системы, на совокупность вещей, на вселенную как целое. Мы не можем, например, с уверенностью вывести из истощения (так сказать) нашей солнечной системы истощение вселенной. И, насколько нам известно, кажется возможным, что когда жизнь на нашей планете угаснет из-за рассеяния солнечного тепла, жизнь может развиваться в какой-то другой части вселенной. Короче говоря, мы не можем утверждать, что то, что происходит в части, должно происходить и в целом.
В то же время, если в совокупности вещей имеет место чередование эволюции и диссолюции, мы должны «придерживаться идеи, что определённые Эволюции заполнили несоизмеримое прошлое и что другие Эволюции заполнят несоизмеримое будущее». И если это личное мнение Спенсера, можно сказать, что он предлагает обновлённую версию некоторых ранних греческих космологий с их идеями циклического процесса. В любом случае, существует ритм эволюции и диссолюции в частях, даже если мы не можем делать догматические утверждения о целом. И хотя первоначально Спенсер говорит о законе эволюции как о законе прогресса, его убеждённость в чередовании эволюции и диссолюции, несомненно, накладывает предел на его оптимизм.
4. Социология и политика.
Идеал Спенсера о полном философском синтезе требует систематического изучения неорганического мира в свете идеи эволюции. И Спенсер указывает, что если бы такая тема была рассмотрена в «Системе философии», «она заполнила бы два тома, один посвящённый Астрогении, а другой – Геогении». Фактически, однако, Спенсер ограничивается в специальной философии биологией, психологией, социологией и этикой. Он, конечно, ссылается на некоторые темы астрономии, физики и химии, но «Система» не предлагает систематического рассмотрения эволюции в неорганическом мире.
Поскольку ограничения пространства не позволяют нам сделать обзор всех частей системы Спенсера, я намерен опустить биологию и психологию и предложить в этом разделе некоторые заметки о его социологических и политических идеях, посвятив следующий раздел этике.
Социолог изучает рост, структуру, функции и продукты человеческих обществ. Возможность социологической науки дана тем фактом, что социальные феномены представляют собой упорядоченное отношение причины и следствия, которое позволяет предсказание; что не отменяется фактом, что социальные законы являются статистическими, а предсказания в этой области приблизительными. «Только половина науки является точной наукой». Требуется возможность обобщения, а не количественная точность. Что касается полезности социологии, Спенсер утверждает, несколько расплывчато, что если возможно воспринять порядок в структурных и функциональных изменениях, через которые проходит общество, «знание такого порядка едва ли не повлияет на наши суждения о том, что является прогрессивным и ретроградным, что желательно, что выполнимо, что утопично».
Рассматривая борьбу за существование в общем эволюционном процессе, мы находим очевидные аналогии между неорганической, органической и сверхорганической (социальной) сферами. Поведение неодушевлённого объекта зависит от отношений между его собственными силами и внешними силами, которым он подвергается. Подобным образом, поведение органического тела есть результат объединённых влияний его внутренней природы и его окружения, будь то неорганическое или органическое. Кроме того, всякое человеческое общество «проявляет ряд феноменов, приписываемых характеру его индивидов и условиям, в которых они существуют».
Несомненно верно, что обе группы факторов, внутренних и внешних, не остаются статичными. Например, человеческая мощь – физическая, эмоциональная и интеллектуальная – развивалась на протяжении истории, в то время как развивающееся общество производило заметные изменения в своём органическом и неорганическом окружении. Более того, продукты развивающегося общества – его институты и культурные творения – являются причиной новых влияний. Более того, чем более развиты человеческие общества, тем больше они будут реагировать друг на друга, то есть сверхорганический фактор будет иметь ещё большее значение. Но, несмотря на возрастающую сложность ситуации, во всех трёх сферах можно различить аналогичное взаимное влияние внутренних и внешних сил.
Хотя существует преемственность между неорганической, органической и сверхорганической сферами, существует также и разрыв. Если есть сходство, есть и различие. Рассмотрим, например, идею общества как организма. Как и в случае органического тела в собственном смысле слова, рост общества сопровождается прогрессирующей дифференциацией структур, ведущей к прогрессирующей дифференциации функций. Но этот пункт сходства между органическим телом и человеческим обществом составляет также пункт расхождения между ними и неорганическим телом. Ибо, по мнению Спенсера, действия различных частей неорганического объекта не могут быть надлежащим образом рассмотрены как функции. Более того, существует важное различие между процессом дифференциации в органическом теле и тем же процессом в социальном организме. Ибо в последнем мы не находим такого типа дифференциации, который в первом приводит к превращению одной части в орган интеллекта, а других частей в органы чувств, в то время как остальные не превращаются. В органическом теле «сознание сконцентрировано в малой части целого», тогда как в социальном организме «оно рассеяно по всему целому: все единицы способны к счастью и несчастью, если не в равной степени, то по крайней мере в приблизительных степенях».
Энтузиаст интерпретации политического общества как организма мог бы, конечно, попытаться найти конкретные аналогии между дифференциацией функций в органическом теле и в обществе. Но это привело бы его к утверждению, например, что правительство аналогично мозгу и что другие части общества должны оставить функцию мышления правительству и ограничиться подчинением его решениям. И это именно тот вывод, которого Спенсер хочет избежать. Он настаивает, таким образом, на относительной независимости индивидуальных членов политического общества и отвергает аргумент, что общество есть организм в смысле того, что оно является чем-то большим, чем сумма его членов, и обладает целью, отличной от целей его членов. «И таким образом, поскольку не существует социального сенсориума, не должно искать благополучие целого, рассматриваемого отдельно от благополучия его членов. Общество существует для блага своих членов; не члены для блага общества». Другими словами, мы можем сказать, что ноги и руки существуют для блага всего тела, но в случае общества нужно сказать, что целое существует для частей. Вывод Спенсера, в любом случае, ясен. И хотя его аргументы иногда бывают туманными и сложными, ясно, что, по его мнению, аналогия организма, применённая к политическому обществу, не только приводит к ложным выводам, но и опасна.
Ситуация, фактически, такова: решение Спенсера применить идею эволюции ко всем типам феноменов заставляет его говорить о политическом обществе, о государстве как о сверхорганизме. Но поскольку он является решительным защитником индивидуальной свободы против требований и злоупотреблений государства, он пытается вырвать жало у этой аналогии, указывая на существенные различия между органическим телом и политическим телом. И он делает это, утверждая, что хотя политическое развитие есть процесс интеграции в смысле роста социальных групп и слияния индивидуальных воль, оно также есть переход от однородности к разнородности, так что дифференциация имеет тенденцию увеличиваться. Например, с прогрессом цивилизации к современному индустриальному государству классовые различия более примитивных обществ имеют тенденцию – так полагает Спенсер – становиться менее жёсткими и даже исчезать. И это признак прогресса.
Позиция Спенсера зависит частично от его тезиса, что «состояние однородности есть состояние нестабильное; и где уже есть некоторая разнородность, имеет место тенденция к большей разнородности». Принимая эту идею эволюционного движения, очевидно следует, что общество с относительно большей дифференциацией будет более развитым, чем то, где дифференциация относительно меньше. В то же время ясно, что точка зрения Спенсера зависит также от ценностного суждения, а именно, что общество, в котором индивидуальная свобода сильно развита, внутренне более достойно восхищения и признания, чем общество, где меньше индивидуальной свободы. В самом деле, Спенсер полагает, что общество, воплощающее принцип индивидуальной свободы, более достойно выживания, чем общества, которые не воплощают этот принцип. И это может быть понято как просто эмпирическое суждение. Но, в любом случае, я считаю, что Спенсер рассматривает первый тип общества как более достойный выживания потому, что его внутренняя ценность выше.
Оставляя в стороне исследования Спенсера о первобытных обществах и их развитии, можно сказать, что он сосредотачивает своё внимание главным образом на переходе от типа милитаристского или воинствующего общества к типу индустриального общества. Воинствующее общество – это в основе «то, в котором армия есть мобилизованная нация, тогда как нация есть армия в неактивном состоянии, и в котором, следовательно, армия и нация имеют общую структуру». Несомненно, что такой тип общества может испытать некоторое развитие. Например, военный лидер становится гражданским или политическим главой, как в случае римского императора; и в конечном счёте армия становится профессиональной специализированной ветвью сообщества, вместо того чтобы совпадать со взрослым мужским населением. Но в воинствующем обществе в целом доминируют элементы интеграции и сплочённости. Первоначальной целью является защита общества, тогда как защита индивидуальных членов имеет значение лишь как средство для достижения первичной цели. Кроме того, в этом типе общества требуется постоянная дисциплина, и «индивидуальность каждого члена настолько подчинена в том, что касается жизни, свободы и собственности, что в значительной степени или полностью он является собственностью государства». Более того, поскольку воинствующее общество стремится к самодостаточности, «политическая автономия стремится сопровождаться экономической автономией». Нацистская Германия, без сомнения, была бы для Спенсера хорошим примером возрождения общества воинствующего типа в новую индустриальную эпоху.
Спенсер не отрицает, что общество воинствующего типа имело существенную роль в эволюционном процессе, рассматриваемом как борьба за существование, в которой выживает наиболее приспособленный. Но он утверждает, что хотя межсоциальный конфликт был необходим для формирования и роста обществ, развитие цивилизации делает войну всё более бесполезной. Общество воинствующего типа становится, таким образом, анахронизмом, и необходим переход к тому, что Спенсер называет обществом индустриального типа. Это не означает, что борьба за существование прекращается, но она меняет форму, превращаясь в «индустриальную борьбу за существование», в которой больше шансов выжить у того общества, которое производит «наибольшее количество лучших индивидов, индивидов лучше приспособленных к жизни индустриального государства». Таким образом, Спенсер пытается избежать обвинения в том, что, дойдя до концепции индустриального общества, он покидает идею борьбы за существование и выживания наиболее приспособленного.
Было бы серьёзной ошибкой предполагать, что под обществом индустриального типа Спенсер понимает просто общество, в котором граждане заняты исключительно и главным образом экономической жизнью производства и распределения. Ибо индустриальное общество, понимаемое в этом узком смысле, могло бы быть совместимо с полным регулированием труда государством. И именно этот элемент принуждения Спенсер стремится исключить. На экономическом уровне Спенсер имеет в виду общество, управляемое принципом laissez-faire. Таким образом, с его точки зрения, коммунистическое и социалистическое государства были бы далеки от воплощения сущности общества индустриального типа. Функция государства состоит в поддержании свободы и индивидуальных прав и, в случае необходимости, в суждении между антагонистическими правами. Не функция государства – позитивно вмешиваться в жизни и поведение граждан, за исключением случаев, когда такое вмешательство требуется для сохранения внутреннего мира.
Другими словами, в индустриальном обществе идеального типа, согласно интерпретации Спенсера, члены, рассматриваемые как индивиды, приобретают большее значение, чем целое, общество как совокупность. «При индустриальном режиме индивидуальность гражданина, вместо того чтобы быть принесённой в жертву обществу, должна быть защищена им. Защита такой индивидуальности становится существенной обязанностью общества.» То есть, кардинальной функцией государства становится справедливое суждение об антагонистических правах граждан как индивидов и предотвращение нарушения свободы одного человека другим.
Тезис Спенсера о всеобщей применимости закона эволюции, очевидно, обязывает его утверждать, что эволюционное движение имеет тенденцию к развитию государства индустриального типа, рассматриваемого Спенсером – несколько оптимистично – как общество по сути мирное. Но тенденции государства к вмешательству и навязыванию правил, проявившиеся в последние десятилетия жизни Спенсера, побудили его выразить страх перед тем, что он назвал «грядущим рабством», и яростно атаковать любую тенденцию государства или какого-либо из его органов считать себя абсолютным. «Великим политическим суеверием прошлого было божественное право королей. Великим политическим суеверием настоящего является божественное право парламентов.» Более того, «функция “либерализма” в прошлом состояла в ограничении полномочий королей. Функция истинного “либерализма” в будущем будет состоять в ограничении полномочий парламентов».
Очевидно, что в этом решительном нападении на «грядущее рабство» Спенсер не мог просто ссылаться на автоматическую работу какого-либо закона эволюции. Его слова явно вдохновлены страстным убеждением в ценности свободы и индивидуальной инициативы, убеждением, которое является отражением характера и темперамента человека, который никогда и ни в какое время своей жизни не склонялся перед авторитетом просто потому, что он установлен. И примечательно, что Спенсер распространил своё нападение на то, что он считал злоупотреблениями государства в отношении частной свободы, до такой степени, что осудил фабричное законодательство, санитарный надзор правительственных чиновников, государственное управление почтой, государственную помощь бедным и государственное образование. Само собой разумеется, он не осуждал реформу как таковую, ни благотворительность, ни существование больниц и школ. Но он всегда настаивал, что такие проекты должны организовываться добровольно, выступая против действий, управления и контроля со стороны государства. Короче говоря, его идеалом было общество, в котором, как он говорил, индивид есть всё, а государство ничто, в противоположность обществу воинствующего типа, в котором государство есть всё, а индивид ничто.
Отождествление Спенсером общества индустриального типа с мирным и антимилитаристским обществом может показаться странным, если мы не утверждаем это как истину по определению. И его защита, доведённая до крайности, политики laissez-faire может показаться нам эксцентричной или, по крайней мере, пережитком устаревшей перспективы. Спенсер, кажется, не понял, как понял Милль, по крайней мере отчасти, и как более полно понял идеалист Т. Х. Грин, что социальное законодательство и так называемое вмешательство государства вполне могут быть необходимы для защиты законных притязаний каждого индивида на достойную человеческую жизнь.
В то же время, неприязнь Спенсера к социальному законодательству (которое сегодня принимается как должное подавляющим большинством граждан в Великобритании) не должна затмевать тот факт, что Спенсер, подобно Миллю, видел опасности бюрократии и любого возвеличивания власти и функций государства, которое имело бы тенденцию подавлять свободу и индивидуальную инициативу. В любом случае, я полагаю, что забота об общем благе ведёт к одобрению государственной деятельности в гораздо большей степени, чем Спенсер был готов принять. Но никогда не следует забывать, что общее благо не есть нечто совершенно отличное от индивидуального блага. И Спенсер, несомненно, был совершенно прав, полагая, что ради блага индивидов и общества в целом граждане должны иметь возможность свободно развиваться и проявлять свою инициативу. Мы можем думать, что это функция государства – создавать и поддерживать условия, позволяющие индивидам развиваться, и что это подразумевает, например, обязанность государства предоставлять все средства образования в соответствии со способностями индивидов ими воспользоваться. Но как только мы принимаем принцип, что государство должно позитивно заботиться о создании и поддержании условий, подходящих для того, чтобы каждый индивид вёл достойную человеческую жизнь в соответствии со своими способностями, мы подвергаемся сопутствующей опасности забыть, что общее благо не есть абстрактная сущность, которой должны безжалостно приноситься в жертву интересы индивидов. И отношение Спенсера, несмотря на его эксцентричные преувеличения, может послужить нам напоминанием, что государство существует для человека, а не человек для государства. Более того, государство есть лишь одна из форм социальной организации: оно не единственная законная форма общества. И Спенсер, конечно, понимал это.
Как уже указывалось, политические взгляды Спенсера были частично выражением эмпирических суждений, связанных с его интерпретацией эволюционного движения в целом, и частично выражением ценностных суждений. Например, его утверждение, что то, что он называет обществом индустриального типа, более достойно выживания, чем другие типы общества, было отчасти предсказанием, что такое общество действительно выживет в силу эволюционного процесса. Но это также было частично суждением, что индустриальный тип общества заслуживает выживания из-за своей внутренней ценности, было только частично суждением. В самом деле, вполне ясно, что в Спенсере позитивная оценка личной свободы была действительно решающим фактором для его представления о современном обществе. Также ясно, что если человек решил, чтобы, насколько это от него зависит, выжил тип общества, уважающий свободу и индивидуальную инициативу, такое решение основывается главным образом на ценностном суждении, а не на какой-либо теории об автоматическом исполнении закона эволюции.
5. Относительная и абсолютная этика.
Спенсер задумал свою этическую теорию как кульминацию своей системы. В предисловии к «Данным этики» он указывает, что его первый очерк «Собственная сфера правительства» (1842) смутно намекал на некоторые общие принципы относительно добра и зла в политическом поведении. И он добавляет, что «всё это время моей конечной целью, той, что лежит за всеми непосредственными целями, было найти научную основу для принципов добра и зла в поведении в целом». Идея сверхъестественного авторитета как основы этики ослабела. Самое насущное теперь – дать морали независимую научную основу, свободную от религиозных верований. И для Спенсера это означает обосновать этику на теории эволюции.
Поведение в целом, включая поведение животных, состоит из ряда действий, направленных на определённые цели. И чем выше мы поднимаемся по шкале эволюции, тем яснее найдём свидетельства существования целенаправленных действий, направленных на благо индивида и вида. Но мы также видим, что телеологическая деятельность такого рода является частью борьбы за существование между различными индивидами одного вида и между различными видами. То есть, каждое существо пытается сохранить себя за счёт другого, и каждый вид поддерживает себя за счёт другого.
Этот тип целенаправленного поведения, в котором проигрывает более слабый, является для Спенсера поведением несовершенно развитым. В совершенном поведении – собственно этическом поведении – антагонизмы между соперничающими группами и между индивидуальными членами одной группы будут заменены сотрудничеством и взаимопомощью. Совершенное поведение, однако, достигается лишь в той мере, в какой воинствующие общества уступают место постоянно мирным обществам. Другими словами, оно не может быть достигнуто устойчивым образом иначе как в полностью развитом обществе, единственном способном преодолеть и превзойти напряжения между эгоизмом и альтруизмом.
Это различение между совершенным и несовершенным поведением служит основой для различения относительной и абсолютной этики. Абсолютная этика есть «идеальный кодекс поведения, который формулирует способ поведения человека, полностью адаптированного к полностью развитому обществу», тогда как относительная этика имеет дело с типом поведения, который в наших нынешних обстоятельствах (то есть в более или менее несовершенных обществах) ближе всего к этому идеалу. По мнению Спенсера, просто ложно, что в любом наборе обстоятельств, требующих от нас целенаправленного действия, мы всегда сталкиваемся с дилеммой между абсолютно хорошим и абсолютно плохим действием. Например, я могу оказаться в таких обстоятельствах, что, как бы я ни поступил, я причиню вред другому человеку. А действие, причиняющее вред другому, не может быть абсолютно хорошим. В таких обстоятельствах, следовательно, я должен попытаться увидеть, какое из возможных действий является относительно хорошим, то есть которое из них, вероятно, причинит наибольшую меру добра и наименьшую меру зла. Я не могу претендовать на то, что моё суждение непогрешимо. Я могу действовать только согласно тому, что кажется мне лучшим, после того как посвятил вопросу всё размышление, которое, по-видимому, требует относительная важность дела. Правда, я могу принимать во внимание идеальный кодекс поведения абсолютной этики, но я не могу честно предположить, что эта норма послужит мне предпосылкой для безошибочного вывода того, что будет относительно лучшим в обстоятельствах, в которых я нахожусь.
Спенсер принимает утилитаристскую этику в том смысле, что он рассматривает счастье как конечную цель жизни и измеряет добро или зло действий по отношению к этой цели. По его мнению, «постепенное развитие утилитаристской этики было, в действительности, неизбежным». В самом деле, с самого начала существовал зарождающийся утилитаризм, в том смысле, что некоторые действия всегда считались хорошими, а другие – вредными для человека и общества. Но в древних обществах этические кодексы были связаны с авторитетом того или иного рода, или с идеей божественного авторитета и санкций, налагаемых обращением к божеству, тогда как со временем этика становилась независимой от неэтических верований, и возникала моральная перспектива, основанная просто на естественных и различимых последствиях действий. Другими словами, эволюционный процесс в области морали способствовал развитию утилитаризма. Следует добавить, однако, что утилитаризм должен пониматься таким образом, чтобы допускать различие между абсолютной и относительной этикой. В самом деле, сама идея эволюции указывает на процесс, ведущий к идеальному пределу. И в таком прогрессе улучшение в добродетели не может быть отделено от социального улучшения. «Невозможно сосуществование совершенного человека и несовершенного общества.»
Поскольку для Спенсера утилитаризм является этикой с научным основанием, понятно, что он желает показать, что это не просто одна из многих взаимно исключающих систем, а что он предоставляет место всем истинам, содержащимся в других системах. Так, он утверждает, например, что правильно понятый утилитаризм принимает точку зрения, настаивающую на понятиях добра, зла и долга, а не на достижении счастья. Бентам мог полагать, что нужно стремиться к счастью непосредственно, применяя гедонистический расчёт. Но он ошибался. На самом деле, он был бы прав, если бы достижение счастья не зависело от выполнения ряда условий. Но в таком случае любое действие было бы моральным, лишь бы оно производило удовольствие. И это представление несовместимо с моральным сознанием. В действительности, достижение счастья зависит от выполнения определённых условий, то есть от соблюдения определённых предписаний или моральных правил. И к чему мы должны стремиться непосредственно, так это к выполнению таких условий. Бентам полагал, что каждый знает, что такое счастье, и что оно более понятно, чем, например, принципы справедливости. Но эта идея противоречит истине. Принципы справедливости легко понятны, тогда как совсем нелегко сказать, что такое счастье. Спенсер защищает, таким образом, то, что он называет «рациональным» утилитаризмом, утилитаризм, который «имеет своей непосредственной целью соответствие определённым принципам, которые, по природе вещей, являются определяющей причиной благополучия».
Более того, тезис о том, что моральные правила могут быть установлены индуктивно путём наблюдения естественных последствий действий, не ведёт к выводу, что теория морального интуиционизма ложна. Ибо существуют так называемые моральные интуиции, хотя они состоят не в чём-то таинственном и необъяснимом, а в «медленно организованных эффектах опыта, полученного расой». То, что изначально было индукцией из опыта, может в последующих поколениях обрести для индивида силу интуиции. Индивид может видеть или чувствовать инстинктивно, что определённое действие хорошо или плохо, хотя эта инстинктивная реакция является продуктом накопленного опыта расы.
Подобным образом, утилитаризм вполне может признать некоторую истину в аргументе, что цель, к которой мы должны стремиться, есть совершенство нашей природы. Ибо эволюционный процесс имеет тенденцию вызывать к жизни высшую форму жизни. И хотя счастье есть высшая цель, «то, что всякая теория о моральном поведении ищет явно или смутно, есть сопутствующий признак этой высшей жизни». Что касается тезиса, что добродетель есть цель человеческого поведения, это не более чем способ выразить доктрину, что нашей непосредственной целью должно быть выполнение условий, необходимых для достижения высшей формы жизни, к которой стремится эволюционный процесс. Достигнув такой формы жизни, её следствием было бы счастье.
Само собой разумеется, Спенсер не мог претендовать на то, что его этическая теория основывается на теории эволюции, не признавая некоторой преемственности между биологической и моральной эволюцией. И он утверждает, например, что человеческая справедливость должна быть развитием до-человеческой справедливости. В то же время, в предисловии, позже изъятом, к частям пятой и шестой «Основ этики», он признаёт, что теория эволюции не служила руководством в желаемой мере.
Однако, кажется, он никогда не понимал, что эволюционный процесс как исторический факт сам по себе не мог установить ценностные суждения, которые он выводил из своей интерпретации. Например, даже если мы утверждаем, что эволюция движется к возникновению определённого типа человеческой жизни в обществе и что такой тип, таким образом, оказывается наиболее приспособленным к выживанию, из этого не следует с необходимостью, что он морально является наиболее совершенным типом. Как видел Т. Г. Гексли, эмпирическая приспособленность к выживанию в борьбе за существование и моральное совершенство не обязательно одно и то же.
Конечно, если мы исходим из гипотезы, что эволюция есть телеологический процесс, направленный на прогрессивное установление морального порядка, ситуация меняется. Но хотя такая гипотеза, возможно, подразумевается в перспективе Спенсера, он не претендовал на выдвижение таких метафизических гипотез.
6. Непознаваемое в религии и науке.
Явный метафизический элемент в мысли Спенсера есть, несколько парадоксальным образом, его философия Непознаваемого. Он вводит эту тему в связи с исследованием предполагаемого антагонизма между религией и наукой. «Из всех антагонизмов веры самый старый, самый распространённый, самый глубокий и самый важный – это антагонизм между религией и наукой». Конечно, если понимать религию просто как субъективный опыт, проблема конфликта между ней и наукой едва ли возникает. Но если мы принимаем во внимание различные религиозные верования, дело обстоит иначе. Что касается конкретных фактов, сверхъестественные объяснения были заменены естественными или научными объяснениями. И религия была вынуждена более или менее ограничиться предложением объяснения существования вселенной как целого. Но её аргументы неприемлемы для любого, кто обладает научной перспективой. В этом смысле, следовательно, существует конфликт между религиозными и научными умами. И он может быть разрешён, по мнению Спенсера, только философией Непознаваемого.
Если мы исходим из религиозной веры, мы можем видеть, что как пантеизм, так и теизм несостоятельны. Под пантеизмом Спенсер понимает теорию вселенной, развивающейся от потенциального существования к актуальному. И он утверждает, что такая идея непостижима. В действительности мы не знаем, что она означает. Таким образом, вопрос её истинности или ложности едва ли возникает. Что касается теизма, понимаемого как теория, что мир был создан внешним агентом, он также несостоятелен. Помимо того факта, что сотворение пространства непостижимо, потому что его несуществование нельзя мыслить, идея Творца, существующего сам по себе, так же немыслима, как идея вселенной, существующей сама по себе. Сама идея «существования самого по себе» непостижима. «Дело не в вероятности или правдоподобии, а в постижимости».
Правда, признаёт Спенсер, если мы спрашиваем о конечной причине или причинах эффектов, произведённых в наших чувствах, мы чувствуем себя неизбежно приведёнными к формулировке гипотезы о первопричине. И нам придётся определить её как бесконечную и абсолютную. Но Мэнсел доказал, что хотя идея конечной и подчинённой Первопричины содержит явные противоречия, идея бесконечной и абсолютной Первопричины также не свободна от противоречий, даже если они не столь непосредственно очевидны. Мы не можем, следовательно, сказать ничего разумного о природе Первопричины. И в конечном счёте мы остаёмся только с идеей непостижимой Силы.
Тем не менее, если мы исходим из науки, мы снова сталкиваемся с Непознаваемым. Ибо наука не может разрешить тайну вселенной. С одной стороны, она не может доказать, что вселенная существует сама по себе, потому что идея существования самого по себе, как мы видели, непостижима и неразумна. С другой стороны, конечные понятия науки «все являются представителями реальностей, которые не могут быть постигнуты». Например, мы не можем постичь, что такое сила «сама по себе». И в конечном счёте «конечные религиозные идеи и конечные научные идеи одновременно превращаются в простые символы реального, а не в знания о нём».
Такой взгляд опирается на анализ человеческого мышления. Всякое мышление, как мы видели, является реляционным. И то, что не может быть определено через свои отношения сходства и несходства с другими вещами, не является возможным объектом знания. Таким образом, невозможно познать безусловное и абсолютное. И это применимо не только к Абсолютному религии, но и к конечным научным идеям как репрезентациям метафеноменальных сущностей или «вещей в себе». В то же время, утверждать, что всякое знание является «относительным», – значит подразумевающе утверждать существование неотносительной реальности. «Если не постулировать реальное Не-относительное или Абсолютное, Относительное становится абсолютным и превращает аргумент в противоречие». Фактически, мы не можем устранить из нашего сознания идею Абсолюта за пределами явлений.
Таким образом, подходим ли мы к теме через критический анализ религиозных верований, или через размышление о наших конечных научных идеях, или через анализ природы мышления и знания, мы приходим в конце концов к идее непознаваемой реальности. И состояние постоянного мира между религией и наукой будет достигнуто «тогда, когда наука полностью убедится, что её объяснения являются приблизительными и относительными, а религия, в свою очередь, полностью убедится, что тайна, которую она созерцает, является конечной и абсолютной».
Теперь, доктрина Непознаваемого образует первую часть «Основных начал» и таким образом помещается в начале философской системы Спенсера в её формальном порядке. Этот факт может побудить неосторожного читателя придать теории фундаментальное значение. Однако, когда он обнаружит, что непостижимый Абсолют или Сила религии практически приравнивается к Силе как таковой, он, возможно, придет к выводу, что теория не более чем, если вообще является, вежливой взяткой, предложенной религиозному человеку другим человеком, который не верил в Бога и который был похоронен, или, скорее, склонён, без какой-либо религиозной церемонии. Легко понять, таким образом, что некоторые писатели отвергли первую часть «Основных начал», назвав её несчастным наростом. Спенсер рассматривает Непознаваемое с значительной подробностью. Но конечный результат не является выдающимся с метафизической точки зрения, поскольку аргументы не были тщательно обдуманы; в то время как учёный, вероятно, будет возражать против представления, что его основные идеи ускользают от всякого понимания.
Спенсер, однако, видит некую тайну во вселенной. Его доказательства существования Непознаваемого действительно несколько запутаны. Иногда он производит впечатление, что принимает феноменализм в духе Юма, утверждая, что модификации, производимые в наших чувствах, должны быть вызваны чем-то, превосходящим наше знание. В других случаях его мысль, кажется, поддерживается более или менее кантианской формой рассуждения, заимствованной у Гамильтона и Мэнсела. Внешние вещи суть феномены в том смысле, что они могут быть познаны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе человеческого мышления. «Вещи в себе» или ноумены не могут быть познаны; но поскольку идея ноумена коррелятивна идее феномена, мы не можем не постулировать её. Спенсер, однако, также полагается на то, что он называет решающим фактом: что помимо «определённого» сознания «есть также неопределённое сознание, которое не может быть сформулировано». Например, мы не можем иметь определённого сознания конечного без сопутствующего неопределённого сознания бесконечного. И такое рассуждение приводит к утверждению бесконечного Абсолюта как возможной реальности, о которой мы имеем неопределённое или смутное сознание. Мы не можем знать, что такое Абсолют. Но даже когда мы отрицаем всякую последовательную и определённую интерпретацию или описание Абсолюта, который проявляет себя, «за ним всегда остаётся элемент, который принимает новые формы».
Кажется, Спенсер серьёзно старался поддерживать такое рассуждение. И хотя могло бы показаться удобнее превратить Спенсера в полного позитивиста, отвергнув доктрину Непознаваемого как уступку религиозным людям, такое упрощённое отвержение, по-видимому, не может быть оправдано. Когда позитивист Фредерик Харрисон призвал Спенсера превратить философию Непознаваемого в контовскую религию человечества, Спенсер не захотел его слушать. Легко высмеивать его за то, что он пишет «Непознаваемое» с заглавной буквы, как если бы – как было сказано – он ожидал, что кто-то снимет перед ним шляпу. Но он, кажется, действительно был убеждён, что мир науки есть проявление реальности, превосходящей человеческое знание. Доктрина Непознаваемого вряд ли удовлетворит многих религиозных людей. Но это другой вопрос. Что касается Спенсера, он, кажется, искренне верил, что смутное сознание Абсолюта или Безусловного было неустранимым элементом человеческой мысли и, так сказать, сердцевиной религии, постоянным элементом, переживающим смену различных верований и метафизических систем.
7. Заключительные замечания.
Само собой разумеется, что в философии Спенсера есть немалая доля метафизики. В самом деле, трудно представить себе философию, которая бы обходилась без неё. Разве феноменализм не есть форма метафизики? И когда Спенсер говорит, например, что «под реальностью мы понимаем постоянство сознания», можно сказать, что это метафизическое утверждение. Мы могли бы, конечно, попытаться интерпретировать это как простое определение или утверждение об обычном употреблении языка. Но когда говорится, что «постоянство есть наше конечное подтверждение реального, будь то существующего в его неизвестной форме или в форме, известной нам», разумно квалифицировать такое утверждение как метафизическое.
Очевидно, Спенсера нельзя определить как метафизика, если под таковым понимать философа, который ставит целью раскрыть природу конечной реальности. Ибо, по его мнению, такая реальность не может быть раскрыта. И хотя он является метафизиком в той степени, в которой утверждает существование Непознаваемого, он затем посвящает себя разработке объединённой и полной интерпретации познаваемого, то есть феноменов. Но если нам нравится называть эту общую интерпретацию «дескриптивной метафизикой», мы, конечно, свободны это делать.