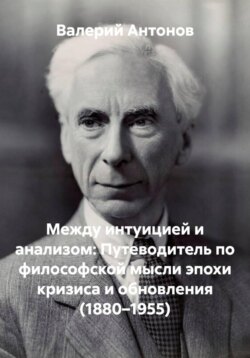Читать книгу Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955) - Валерий Антонов - Страница 6
Абсолютный идеализм: Бозанкета
Оглавление1. Жизнь и труды.
Брэдли был одиночкой. Совершенно противоположное можно сказать о другом представителе абсолютного идеализма в Англии: Бернарде Бозанкете (1848-1923). После учебы в Баллиол-колледже Оксфорда, где он попал под влияние Т. Х. Грина и Р. Л. Неттлшипа, он был избран феллоом Юниверсити-колледжа Оксфорда в 1871 году. Но в 1881 году он переехал в Лондон с намерением посвятить себя не только писательству, но и участию в движении образования для взрослых, которое тогда только начиналось, а также общественной работе. С 1903 по 1908 год он занимал кафедру моральной философии в Университете Сент-Эндрюс.
Бозанкет был плодовитым автором. В 1883 году появился его очерк «Логика как наука о познании» в «Очерках философской критики», отредактированных А. Сетом и Р. Б. Холдейном. «Познание и реальность» были опубликованы в 1885 году, а «Логика, или Морфология познания» в двух томах появилась в 1888 году. За ними последовали в короткий промежуток времени «Очерки и речи» (1889), «История эстетики» (1892, 2-е издание 1904), «Цивилизация христианского мира и другие исследования» (1893), «Спутник "Государства" Платона» (1895), «Основы логики» (1895) и «Психология нравственного "я"» (1897). В 1899 году Бозанкет опубликовал, пожалуй, свою самую известную книгу: «Философская теория государства». В 1912 и 1915 годах соответственно появились две серии лекций, прочитанных в качестве лекций Гиффорда: «Принцип индивидуальности и ценности» и «Ценность и судьба индивида». Среди других публикаций можно упомянуть: «Различие между умом и его объектами» (1913), «Три лекции по эстетике» (1915), «Социальные и международные идеалы» (1917), «Некоторые предложения по этике» (1918), «Импликация и линейный вывод» (1920), «Что есть религия?» (1920), «Встреча крайностей в современной философии» (1921) и «Три главы о природе ума» (1923).
Несмотря на эту долгую литературную деятельность, Бозанкета, как правило, забывали, и по сравнению с Брэдли его редко упоминают в наши дни, разве что в связи с определенным типом политической теории. Объяснением могло бы быть то, что Бозанкет – мыслитель менее ясный и менее парадоксальный, чем Брэдли. Однако, по-видимому, более важным фактором является убеждение, что, помимо политической и эстетической теории, он не говорит много больше, чем можно найти в трудах его более известных современников. Действительно, в 1920 году Бозанкет писал одному итальянскому философу, что со времени публикации «Этических исследований» в 1876 году он считал Брэдли своим учителем. Но это скромное указание едва ли соответствует фактам. Например, Бозанкет резко критиковал работу Брэдли «Принципы логики», исходя из принципа, что она открывает пропасть между мышлением и реальностью. И Брэдли признал свой долг перед идеями Бозанкета относительно материала, добавленного ко второму изданию «Принципов логики». Что касается «Явления и реальности», то оно глубоко повлияло на Бозанкета; но хотя он, как и Брэдли, был монистом, он развил собственную метафизику, которая в некоторых аспектах была ближе к гегельянству. Он был убежден в истинности принципа Гегеля, что разумное действительно, а действительное разумно, и не разделял явных скептических склонностей Брэдли.
2. Логика: суждение и реальность.
В определенном смысле, говорит Бозанкет, верно, что мир для каждого индивида есть его мир, поток его сознания, состоящий из его восприятий. «Реальный мир каждого индивида изначально есть его мир: расширение и определение его актуального восприятия, которое для него фактически не есть реальность как таковая, а его точка соприкосновения с реальностью как таковой». То есть следует различать поток сознания как ряд психических феноменов и «интенциональное» сознание, поскольку оно представляет систему взаимосвязанных объектов. «Сознание есть сознание мира лишь постольку, поскольку оно представляет систему, совокупность объектов, взаимодействующих друг с другом и, следовательно, независимых от присутствия или отсутствия сознания, которое их представляет». Мы должны также различать наш объективный мир и творения нашего воображения. Таким образом, мы можем сказать, что «целостность мира, для каждого из нас, есть поток нашего сознания, насколько он интерпретируется как система объектов, о которых мы необходимо должны мыслить».
Изучение этого фактора необходимости показывает нам, что миры различных индивидов формируются посредством определенных процессов, общих для интеллекта как такового. В некотором смысле каждый из нас начинает со своего частного мира. Но чем более развивается конструктивный процесс формирования систематического мира объектов, тем более соответствуют друг другу различные миры и тем более они стремятся слиться в общий мир.
Процесс формирования мира есть процесс познания, в смысле приходить к познанию. Таким образом, познание есть ментальное конструирование реальности, среда, в которой мир существует для нас как система взаимосвязанных объектов. И логика есть анализ такого конструктивного процесса. «Функция интеллектуального конституирования той целостности, которую мы называем реальным миром, есть функция познания. Функция анализа процесса такого конституирования или определения принадлежит логике, которая может быть определена как самосознание познания или рефлексия познания на себя».
Теперь познание дано в суждении. И, следовательно, если логика есть самосознание познания, изучение суждения будет фундаментальным в логике. Конечно, мы можем сказать, что предложение, выражение суждения, имеет «части». И что высказывание предложения есть временной процесс. Но само суждение есть «тождество-в-различии»: это не «отношение между идеями, ни переход от одной идеи к другой, ни содержит третью идею, указывающую на особую связь между двумя другими идеальными содержаниями».
Конечным субъектом суждения является реальность как целое, и «сущность суждения есть отнесение идеального содержания к реальности». Таким образом, каждое суждение могло бы быть предварено такой фразой, как «реальность такова, что…» или «реальный мир характеризуется тем, что…».
Что касается умозаключения, на первый взгляд мы можем различить суждение и умозаключение, сказав, что первое есть непосредственное, а второе – опосредованное отнесение идеального содержания к реальности. Но при более внимательном рассмотрении такое различие имеет тенденцию исчезать. Потому что, строго говоря, ни о каком суждении нельзя сказать, что оно выражает знание, если оно не обладает характеристиками необходимости и «точности», точности, зависящей от явных опосредованных условий. И в этом случае невозможно никакое абсолютное различие между суждением и умозаключением. Вместо этого у нас есть идеал конечного суждения, которое бы предицировало целостность реальности – как идеальное содержание – самой себе. Такое конечное суждение, конечно, не было бы простым. Потому что оно включало бы в себя все взаимосвязанные органически и последовательно частичные истины. Оно было бы полным тождеством-в-различии в форме познания. «Целостность есть истина». И частные истины суть таковые постольку, поскольку они связаны с другими истинами внутри такой целостности.
Очевидно, что Бозанкет согласен с Брэдли во многих пунктах: в фундаментальной важности суждения в логике, в реальности как конечном субъекте всякого суждения и в истине, в ее полном смысле, как полной системе истины. Но, несмотря на согласие по различным пунктам, между ними существуют важные различия в установке. Так, для Бозанкета реальность или вселенная «не только такова, что может быть познана интеллектом, но скорее такова, что может быть познана и постигнута нашим интеллектом». Конечно, Бозанкет тщательно избегает говорить, что конечный ум может полностью постичь реальность. В то же время он хочет избежать того, что он считает явной тенденцией Брэдли установить предел между человеческим мышлением, с одной стороны, и реальностью – с другой. Каждый конечный ум приближается к реальности с особой точки зрения и формирует свое собственное понятие реальности. Но хотя верно, что существуют степени истины и, следовательно, степени заблуждения, ни одно суждение не полностью оторвано от реальности; и интеллект как таковый заставляет нас концептуализировать вселенную таким образом, что, несмотря на частные точки зрения, сознанию предлагается общий объективный мир. Более того, человеческое мышление в целом все более приближается к полному пониманию реальности, хотя конечный идеал суждения является целью, превосходящей способность любого данного конечного ума.
3. Метафизика индивидуальности.
У Бозанкета и Брэдли, очевидно, существует тесная связь между логикой и метафизикой. Поскольку оба утверждают, что конечным субъектом всякого суждения является реальность как целое. Но было бы ошибкой думать, что, поскольку Бозанкет определяет логику как самосознание познания, он хочет сказать, что логика может дать нам эмпирическое знание о мире. Бозанкет не утверждает этого тезиса, как не утверждает его и Брэдли. Логика есть морфология познания: она не дает нам содержания познания.
Действительно, ошибочно искать в философии знание фактов, неизвестных до сих пор. «Философия не может говорить о новых фактах и не может ничего открыть. Все, что она может сказать нам, это значимые отношения, существующие между уже известным. И если известно мало или ничего не известно, философии очень мало или нечего сказать». Иначе говоря, эмпирическое знание приобретается через обычный опыт, изучение физики, химии и т.д. Философия ничего не отнимает и не добавляет к такому знанию. Что она делает, так это показывает сеть отношений между уже известными фактами.
Конечно, науки не предлагают нам изолированные атомарные факты: они показывают отношения, связи, подчиняя факты тому, что мы называем законами. Таким образом, если философия должна выполнять аналогичную миссию, демонстрация «значимой связи» между уже известным должна пониматься как демонстрация того, что факты, уже известные другими средствами, кроме философии, являются членами исчерпывающей системы, в которой каждый из членов вносит вклад в общее единство в силу характеристик, отличающих его от других членов. Другими словами, философ по существу не интересуется «понятиями классов», сформированными путем абстракции отличительных характеристик, а скорее конкретной универсалией, которая есть тождество-в-различии: универсалией, существующей в и через своих индивидов.
Конкретную универсалию Бозанкет, следуя Гегелю, называет «индивидуумом». И ясно, что в полном смысле слова может быть только один индивидуум: Абсолют. Поскольку такая универсалия универсалий есть исчерпывающая система, которая одна может полностью удовлетворить нормы, предложенные Бозанкетом, а именно непротиворечивость и полноту. Эти нормы, говорит он, на самом деле суть одна. Потому что только в полном целом дано полное отсутствие противоречия.
Хотя индивидуальность принадлежит Абсолюту в выдающемся смысле, она также приписывается человеческим существам, хотя и во вторичном смысле. И, исследуя такое употребление термина, Бозанкет настаивает, что индивидуальность не должна пониматься преимущественно негативно, как если бы она состояла просто в том, чтобы быть чем-то другим. В конце концов, в случае высшего индивидуума, Абсолюта, нет никакого другого индивидуума, от которого он мог бы отличаться. Индивидуальность следует, наоборот, концептуализировать позитивно, как нечто состоящее «в богатстве и полноте самости». И именно в социальной морали, в искусстве, в религии и в философии «конечный ум начинает испытывать нечто от того, что индивидуальность должна означать в конечном счете». В социальной морали, например, человеческая личность превосходит то, что Бозанкет называет отталкивающим самосознанием, потому что частная воля находит себя соединенной с другими волями, не будучи упраздненной в процессе. Более того, в религии человеческое существо превосходит уровень малого и обедненного «я» и чувствует, что достигает более высокого уровня богатства и полноты в единении с божественным. В то же время мораль подчиняется религии.
Изучение развития индивидуального «я» может, таким образом, дать нам представление о том, как различные уровни опыта могут быть поняты и преобразованы в едином унифицированном и исчерпывающем опыте, который составляет Абсолют. И здесь Бозанкет приводит пример ума Данте, как он выражен в «Божественной комедии». Внешний мир и мир «я» присутствуют в уме поэта и выражены в поэме. Человеческие «я» действительно представлены как мыслящие и деятельные существа, как реальные существа, существующие во внешней сфере. В то же время все эти «я» живут только через участие в мыслях, эмоциях и действиях, которые решает поэт и выражает поэма.
Смысл такой аналогии не следует интерпретировать так, как если бы для Бозанкета Абсолют был умом, стоящим за вселенной, умом, сочиняющим божественную поэму. Абсолют есть целостность. Следовательно, он не может быть умом. Потому что ум есть совершенство, зависящее от определенных предварительных физических условий и составляющее определенный уровень реальности. Также Абсолют не может быть просто отождествлен с Богом религиозного сознания, который есть существо, отличное от мира и чуждое злу. «Целостность, рассматриваемая как совершенство, в котором не замечается антагонизм между добром и злом, – это не то, что религия понимает под Богом, а должно пониматься как Абсолют». Здесь Бозанкет согласен с Брэдли.
Но хотя Абсолют не может быть умом или «я», изучение самосознания, главной характеристики ума, может дать нам определенные ключи, позволяющие расшифровать природу реальности. Например, «я» достигает удовлетворения и богатства опыта именно тем, что выходит за свои пределы: оно должно умереть, так сказать, чтобы жить. И это указывает на то, что совершенный опыт воплощает характер «я», по крайней мере, до такой степени, чтобы выходить за свои пределы, чтобы восстановить себя. Другими словами, Бозанкет, в отличие от Брэдли, пытается объяснить существование конечного опыта. «Конечно, не то, чтобы бесконечное существо могло терять и восстанавливать свое совершенство, а то, что бремя конечного есть внутренняя часть или, лучше, инструмент полноты самости бесконечного. Идея знакома. Я могу только сказать, что она теряет весь свой смысл, если не принимать ее полностью всерьез». Возражение против этой гегелевской идеи Абсолюта, развивающего себя, состоит в том, что она, по-видимому, вводит временную последовательность в бесконечное существо. Но если мы не готовы сказать, что понятие Абсолюта есть для нас пустое понятие, мы не можем не приписать ему содержание, которое, с нашей точки зрения, развивается во времени.
Можно было бы возразить, что Бозанкет ничего не делает для доказательства существования Абсолюта. Он просто предполагает его существование и говорит нам, чем он должен быть. Его ответ, однако, состоит в том, что на всех уровнях опыта и мышления есть движение от противоречивого и частичного к непротиворечивому и целому, и что такое движение может закончиться только в понятии Абсолюта. «Я не знаю, в какой момент можно оправдать прерывание процесса». Идея Абсолюта, целостности, есть на самом деле движущая сила, конечная цель всего мышления и рефлексии.
Теперь индивидуальность есть норма ценности, понятие, которому Бозанкет придает гораздо большее значение, чем Брэдли. И поскольку индивидуальность в ее полной форме обнаруживается только в Абсолюте, он должен быть конечной нормой ценности, так же как и нормой истины и реальности. Отсюда следует, что невозможно приписать конечную или абсолютную ценность конечному «я». И поскольку Бозанкет понимает самосовершенствование как преодоление замкнутости в себе и сознательное вхождение в состав большего целого, от него едва ли можно ожидать, что он будет представлять личное бессмертие как судьбу конечного «я». Действительно, он говорит, что лучшее в конечном «я» сохраняется, преобразованное, в Абсолюте. Но он также признает, что то, что сохраняется от моего «я», не было бы для моего настоящего сознания продолжением «моего я». Однако это не является для Бозанкета причиной сожаления. «Я» есть, как мы знаем, смесь, так сказать, конечного и бесконечного; и только сбрасывая ограниченные одежды конечной и ограниченной самости, оно достигает своей судьбы.
Как уже говорилось, Бозанкета не так интересует, как Брэдли, показ недостатков человеческого мышления как инструмента постижения реальности; его гораздо больше интересует понимание вселенной как целого и определение степеней совершенства или ценности. Но в конечном счете оба утверждают, что вселенная есть нечто весьма отличное от того, чем она кажется. Бозанкет не придает большого значения этому аспекту, и поэтому, возможно, его мысль кажется менее интересной, чем мысль Брэдли. Но оба представляют вселенную как бесконечный опыт, то есть как нечто, что не воспринимается с первого взгляда. Хотя между ними существует существенное сродство, Бозанкет важен тем, что сделал явным базовое ценностное суждение монистического идеализма, а именно, что высшая ценность и конечная норма всякой ценности есть целостность, конкретная универсалия, все объемлющая и в которой преодолены все «противоречия».
4. Философия государства у Бозанкета.
Учитывая абсолютный идеализм Бозанкета, от него нельзя ожидать поддержки политической теории, которая рассматривает государство как искусственное устройство, позволяющее индивидам (в обычном смысле слова) преследовать свои частные цели с миром и безопасностью. Все такие теории он осуждает как поверхностные, как теории «первого взгляда». «Они составляют первое впечатление человека с улицы или путешественника, томящегося на железнодорожной станции, для которого компактная интровертность и эгоизм роя человеческих существ перед ним являются очевидным фактом, в то время как социальная логика и духовная история, лежащие за сценой, не могут сложиться в его воспринимающем воображении».
Такие теории предполагают, что каждый человек есть замкнутая в себе единица, испытывающая воздействие других подобных единиц. И правительство имеет тенденцию проявляться как воздействие других, когда оно систематизируется, регулируется и сводится к минимуму. Другими словами, государство предстает как нечто чуждое индивиду, подчиняющее его извне, и, таким образом, как зло, хотя и признанное необходимым.
Совершенно иная идея выражена в теории «общей воли» Руссо. Руссо развивает идею «тождества между моей частной волей и волей всех, кто ассоциирован со мной в политическом теле, согласно которому можно сказать, что во всяком социальном сотрудничестве и даже в подчинении принудительному запрету, когда он налагается обществом ради общего реального интереса, я подчиняюсь только самому себе и фактически достигаю своей свободы». Таким образом, в процессе выражения своего энтузиазма по поводу прямой демократии и своей враждебности к представительному правительству, Руссо фактически возвеличивает Волю Целого на место Общей Воли, которая становится не-сущностью.
Таким образом, мы должны превзойти Руссо и придать реальное содержание идее Общей Воли, фактически не сводя ее к Воле Целого. Это означает отождествление ее с государством, рассматриваемым не только как правительственная структура, а скорее как «функциональная концепция жизни…, концепция, согласно которой каждый живой член общего блага может исполнять свою функцию, как учил нас Платон». Если государство и политическое общество понимаются в этом смысле, мы можем увидеть, что отношение между индивидуальным умом и волей и умом общества и Общей Волей сравнимо с отношением между отдельным физическим объектом и Природой как целым. В обоих случаях замкнутый в себе индивид есть абстракция. Реальная воля индивида, посредством которой он хочет своей собственной природы как разумного существа, таким образом, тождественна Общей Воле. И в этом отождествлении «мы находим истинную ценность политического долга». Подчиняясь государству, индивид подчиняется своей реальной воле. И когда государство принуждает его действовать определенным образом, оно принуждает его действовать в соответствии с его реальной волей и, следовательно, действовать свободно.
Иначе говоря, предполагаемая антитеза между индивидом и государством есть для Бозанкета ложная антитеза. Отсюда следует, что проблема оправдания вмешательства государства в частную свободу на самом деле не является таковой. Что не означает, однако, что не может возникнуть никакой реальной проблемы в связи с конкретным конкретным вопросом. Поскольку конечная цель государства, как и его членов, есть моральная цель, реализация лучшей жизни, жизни, которая в наибольшей степени развивает возможности или способности человека как человеческого существа. Таким образом, мы всегда можем спросить, например, в отношении конкретного закона, «в какой степени и каким образом использование силы или чего-то подобного со стороны государства является препятствием для достижения цели, ради которой существует государство», и которая одновременно является целью каждого из его членов. Просто апеллировать к частной свободе против так называемого государственного вмешательства обычно выражает непонимание природы государства и его отношений с его членами. Но это никоим образом не означает, что использование принуждения всегда способствует цели, ради которой существует государство.
Мнение Бозанкета может быть прояснено следующим образом: поскольку цель государства есть моральная цель, такая цель не может быть достигнута, если граждане не действуют морально, что подразумевает намерение одновременно с внешним действием. Мораль в этом полном смысле, однако, не может быть продиктована законом. Можно заставить индивидов, например, воздерживаться от совершения определенных действий; но их нельзя заставить делать это по высоким моральным причинам. Действительно, ясно, что запрет убийства способствует общему благу, даже если мотивом для соблюдения такого закона является просто страх перед наказанием. Но все же верно, что использование силы, поскольку оно является определяющей причиной действия, снижает результирующие действия до уровня ниже того, который они занимали бы, если бы были результатом разума и свободного выбора. Таким образом, использование силы и принуждения должно быть ограничено настолько, насколько возможно, не потому, что считается, что оно представляет собой вмешательство общества в замкнутого в себе индивида (поскольку это ложная антитеза), а потому, что оно мешает выполнению цели, ради которой существует государство.
Другими словами, Бозанкет разделяет мнение Т. Х. Грина, что первичная функция закона – устранять препятствия для благого развития жизни. Насколько можно расширить социальное законодательство, например, – это не вопрос, на который можно ответить априори. Что касается общих принципов, можно сказать только, что принуждение оправдано, когда можно продемонстрировать, что «определенная тенденция к росту, или определенный резерв способности, расстраивается известным препятствием, устранение которого имеет мало значения по сравнению с возможностями, которые оно предлагает, если оставить его на свободе». Согласно этому принципу можно оправдать, например, обязательное обучение как устранение препятствия, мешающего более полному и широкому развитию человеческих возможностей. Конечно, само законодательство позитивно. Но цель закона в основном состоит в устранении препятствий, мешающих реализации цели, ради которой существует политическое общество, цели, которая «реально» желаема каждым членом как разумным существом.
Если предположить, что моральная цель есть наиболее полное возможное развитие человеческих способностей, и что она достигается или, во всяком случае, приближается к ней только в контексте общества, кажется логичным предвидеть за национальным государством идею универсального общества, человечества в целом. И Бозанкет, по крайней мере, признает, что идея человечества должна даваться «во всякой достаточно полной философской мысли». В то же время он утверждает, что этическая идея человечества не обеспечивает адекватной основы для эффективного сообщества. Потому что мы не можем предполагать в человечестве в целом достаточное единство опыта – как существующее в национальном государстве – для осуществления Общей Воли. Более того, Бозанкет осуждает предложения в пользу международного государства, которое заменило бы национальные языки универсальным языком; замена, которая, по его мнению, уничтожила бы литературу и поэзию и снизила бы интеллектуальную жизнь до уровня посредственности. Как и Гегель, Бозанкет, таким образом, неспособен превзойти идею национального государства, одушевленного общим духом, выражающимся в объективных институтах и подвергающим их критической оценке в свете опыта и потребностей момента.
Также, как и Гегель, Бозанкет не прочь признать, что ни одно существующее государство не избегает критики. Возможно, в принципе, что государство действует «в противоположность своей главной обязанности поддерживать условия, необходимые для наилучшей возможной жизни». Но хотя такое допущение может показаться многим вполне оправданным, оно ставит особые проблемы для любого, кто утверждает, как Бозанкет, что государство каким-то образом отождествляется с Общей Волей. Поскольку, по определению, Общая Воля хочет только блага. Таким образом, Бозанкет склонен различать государство как таковое и его агентов. Последние могут действовать аморально, но первое, государство как таковое, не может нести ответственность за ошибки своих агентов, «за исключением едва мыслимых обстоятельств».
Нельзя сказать, что такая ситуация логически удовлетворительна. Если государство как таковое означает Общую Волю, и если Общая Воля всегда хочет блага, то, по-видимому, следует, что не существует никаких мыслимых обстоятельств, при которых можно было бы сказать, что государство действует аморально. И в конечном счете все сводится к тавтологии, а именно, что воля, которая всегда хочет блага, всегда хочет блага. Фактически, сам Бозанкет, кажется, осознает это, поскольку предполагает, что при строгом определении деятельности государства следует сказать, что оно на самом деле не желает аморального действия, которое мы обычно приписывали бы «государству». В то же время логично, что он должен признать, что могут быть обстоятельства, при которых можно законно говорить об аморальной деятельности государства. Но, говоря о «едва мыслимых обстоятельствах», он не может не подразумевать, что на практике государство избегает критики. Для тех, кто утверждает, что утверждения об деятельности государства всегда сводимы к утверждениям об индивидах, нет проблемы говорить об аморальной деятельности государства. Но если мы исходим из того, что можно осмысленно говорить о «государстве как таковом», не сводя наши утверждения в принципе к набору утверждений об определенных индивидах, возникает проблема, могут ли нормы личной морали законно применяться при оценке действий этой несколько таинственной сущности.
5. Критика Л. Т. Хобхауса.
Понятно, что когда некоторые британские писатели пытались показать, что окончательная ответственность за Первую мировую войну лежит на немецких философах, таких как Гегель, политическая философия Бозанкета получила свою долю критики. Например, в «Метафизической теории государства» (1918) Л. Т. Хобхауса, хотя он в основном занимается Гегелем, содержит довольно обширную критику Бозанкета, в котором он справедливо видит британского политического философа, наиболее близкого к Гегелю.
Хобхаус суммирует то, что он называет метафизической теорией государства, в следующих трех положениях: «Индивид достигает своего истинного "я" и своей свободы в соответствии со своей реальной волей»; «такая реальная воля есть общая воля»; и «общая воля воплощена в государстве». Таким образом, государство практически отождествляется со всей социальной структурой, с обществом в целом; и оно рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью. Но если государство отождествляется с обществом, следствием является поглощение индивида государством. И почему национальное государство должно рассматриваться как высший продукт социального развития? Если исходить из аргумента, что существует Общая Воля и что таковая есть реальная или истинная воля человека, то такая Воля нашла бы гораздо более адекватное выражение в международном обществе, чем в национальном государстве. Конечно, международного общества еще не существует. Но создание такого общества должно рассматриваться как идеал, к которому следует стремиться эффективно, поскольку Бозанкет, следуя Гегелю, проявляет неоправданное предубеждение в пользу национального государства. В этом смысле идеалистическая политическая теория чрезмерно консервативна. Более того, если государство рассматривается как хранитель и выражение морали, поскольку оно является высшей моральной сущностью, логическим следствием является пагубный моральный конформизм. В любом случае, если государство действительно, как считает Бозанкет, моральная сущность более высокого порядка, чем индивидуальный моральный агент, очень странно, что такие возвышенные моральные сущности, как различные государства, не смогли регулировать свои взаимные отношения, придерживаясь моральных норм. Короче говоря, «смешение государства с обществом и политического долга с моральным долгом есть центральная ошибка метафизической теории государства».
Резюмируя метафизическую теорию государства в определенное количество тезисов, Хобхаус вынужден признать, что Бозанкет иногда говорит таким образом, что его слова нелегко вписываются в эту абстрактную схему. Но он решает эту проблему, говоря, что Бозанкет виновен в непоследовательности. Он отмечает, например, что во введении ко второму изданию «Философской теории государства» Бозанкет ссылается на социальное сотрудничество, которое строго не соответствует ни государству, ни частным индивидам как таковым. И он считает это несовместимым с тезисом, что истинное «я» каждого человека находит свое адекватное воплощение в государстве. Более того, Хобхаус отмечает, что в «Социальных и международных идеалах» Бозанкет говорит о государстве так, как если бы оно было органом сообщества с функцией поддержания внешних условий, необходимых для развития лучшей жизни. И он считает эту манеру речи несовместимой с тезисом, что государство тождественно всему социальному зданию. Вывод Хобхауса, следовательно, состоит в том, что если такие пассажи выражают то, что Бозанкет на самом деле думает о государстве, он должен предпринять «реконструкцию всей своей теории».
В общем, очевидно, что Хобхаус совершенно прав, находя у Бозанкета так называемую метафизическую теорию государства. Без сомнения, это преувеличение сказать, что, согласно Бозанкету, истинное «я» человека находит свое адекватное воплощение в государстве, если под этим понимать, что возможности человека полностью реализуются в том, что обычно можно было бы считать его жизнью гражданина. Подобно Гегелю, Бозанкет рассматривает искусство, например, отдельно от государства, хотя и предполагает общество. В то же время, несомненно, верно, что он придерживается органической теории государства, согласно которой утверждения о государстве «как таковом» принципиально несводимы к утверждениям об определенных индивидах. Также верно, что Бозанкет придает национальному государству выдающуюся роль как воплощению Общей Воли, и что он не проявляет никакого интереса к идее более широкого человеческого общества. Что касается смешения моральных и политических обязанностей, которое Хобхаус упоминает как кардинальный элемент метафизической теории государства и которому он решительно противится, я думаю, необходимо одно замечание.
Если мы защищаем телеологическую интерпретацию морали, согласно которой долг понимается как требование, относящееся к действиям, необходимым для достижения определенной цели (например, реализации и гармоничной интеграции наших собственных возможностей как человеческих существ), и если в то же время мы рассматриваем жизнь в организованном обществе как одно из средств, необходимых в норме для достижения такой цели, мы едва ли сможем избежать рассмотрения политического долга как одного из выражений морального долга. Что никоим образом не означает, что мы должны смешивать моральный долг с политическим долгом, если под этим понимать сведение первого ко второму. Такое смешение возникает только в том случае, если государство рассматривается как основа и истолкователь морального закона. Если мы так рассматриваем государство, результатом будет, как отмечает Хобхаус, пагубный конформизм. Но хотя теория Бозанкета о том, что Общая Воля находит свое адекватное воплощение в государстве, несомненно, поддерживает его страстную идею моральной функции последнего, мы видели, что он также допускает, хотя и с некоторым неудовольствием, моральную критику любого реального государства. Аргумент Хобхауса, однако, состоит в том, что Бозанкет здесь виновен в непоследовательности, и что если он действительно хочет позволить моральную критику государства, он должен пересмотреть свою теорию Общей Воли. Мне кажется, этот аргумент справедлив.
6. Р. Б. Холдейн, гегельянство и теория относительности.
Мы отмечали, что Бозанкет был ближе к Гегелю, чем Брэдли. Но если мы хотим найти британского философа, который открыто разделял энтузиастическое почитание Стирлингом Гегеля как великого мастера спекулятивной мысли, мы должны обратить внимание на Ричарда Бардона Холдейна (1856-1928), выдающегося государственного деятеля, получившего в 1911 году титул виконта Холдейна Клоанского. В своей двухтомной работе «Путь к реальности» (1903-1904) Холдейн заявлял, что Гегель был величайшим учителем спекулятивного метода со времен Аристотеля, и что он сам не только готов был называться гегельянцем, но и стремился к этому. И действительно, его нескрываемое восхищение немецкой мыслью и культурой вызвало довольно постыдную атаку на него в начале Первой мировой войны.
Холдейн стремился показать, что теория относительности не только совместима с гегельянством, но и требует его. В «Пути к реальности» он предлагал философскую теорию относительности; и когда Эйнштейн опубликовал свои работы по этой теме, Холдейн увидел в них подтверждение своей собственной теории, развитой в «Царстве относительности» (1921). Короче говоря, реальность как целое едина, но знание такого единства может быть достигнуто с различных точек зрения, таких как точка зрения физика, биолога и философа. И каждая точка зрения вместе с категориями, которые она использует, представляет частичное и относительное понятие истины и не должна абсолютизироваться. Эта идея не только соответствует, но и требуется философской перспективой, которая рассматривает реальность в конечном счете как дух и понимает истину как полную систему истины: полное отражение или знание себя реальностью, цель, достигнутая через различные диалектические стадии.
Нельзя сказать, что такая общая теория относительности была сама по себе новинкой. И в любом случае было уже слишком поздно пытаться оживить гегельянство, подчеркивая релятивистские аспекты системы и призывая к покровительству Эйнштейна. Тем не менее, Холдейн заслуживает упоминания как одна из видных фигур в общественной жизни Англии, проявлявшая значительный интерес к философским проблемам.
7. Г. Г. Йоахим и теория истины как когерентности.
У нас уже была возможность ссылаться на теорию истины как когерентности, а именно, что всякая частная истина является таковой в силу места, которое она занимает в исчерпывающей системе истины. Эту теорию исследовал и защищал в «Природе истины» (1906) Гарольд Генри Йоахим (1868-1938), который занимал кафедру логики Уайкхэма в Оксфорде с 1919 по 1935 год. И не будет лишним сказать что-то об этой работе, потому что ее автор показывает в ней ясное осознание проблем, которые теория ставит, и с которыми он смело сталкивается.
Йоахим исследует теорию истины как когерентности посредством критического рассмотрения других теорий. Рассмотрим, например, теорию соответствия, согласно которой эмпирическое утверждение истинно, если оно соответствует вненаучной реальности. Если кто-то спросит нас, какова реальность, к которой относится, например, истинное научное утверждение, наш ответ неизбежно должен быть выражен в суждении или ряде суждений. Таким образом, когда мы говорим, что научное утверждение истинно, потому что оно соответствует реальности, мы на самом деле говорим, что определенное суждение истинно, потому что оно систематически когерентно с другими суждениями. То есть соответствие истины превращается в теорию когерентности.
Или возьмем теорию, что истина есть качество определенных сущностей, называемых «предложениями», качество, воспринимаемое непосредственно или интуитивно. Согласно Йоахиму, тезис о том, что непосредственный опыт есть опыт истины, может быть принят только в той мере, в какой будет показано, что интуиция есть результат рационального опосредования, то есть поскольку будет видно, что рассматриваемая истина когерентна с другими истинами. Предложение, рассматриваемое как независимая сущность, обладающая качеством истинности или ложности, есть просто абстракция. Таким образом, мы снова должны понимать истину как когерентность.
Йоахим, таким образом, убежден, что теория истины как когерентности превосходит все другие конкурирующие с ней теории. «Я никогда не сомневался в том, что истина едина, полна и завершена, и что всякая мысль и всякий опыт движутся внутри этого утверждения и подчиняются его явному авторитету». Точно так же Йоахим не сомневается в том, что различные отдельные суждения и системы частичных суждений являются «более или менее истинными, т.е. поскольку они более или менее тесно приближаются к единственной норме». Но как только мы начинаем делать теорию когерентности явной, думать о ее смысле и импликациях, возникают проблемы, которые нельзя игнорировать.
Во-первых, когерентность означает не просто формальную непротиворечивость. В конечном счете, она относится к значимой и всеобъемлющей целостности, в которой форма и материя, знание и его объект, неразрывно соединены. Иначе говоря, истина как когерентность означает абсолютный опыт. И адекватная теория истины как когерентности должна предложить понятное исследование абсолютного опыта, всеобъемлющей целостности, и показать, что различные степени неполного опыта образуют конститутивные моменты абсолютного опыта. Но невозможно, в принципе, чтобы какая-либо философская теория могла выполнить такое требование. Поскольку всякая философская теория есть результат конечного и частичного опыта и, в лучшем случае, может составлять лишь частичное проявление истины.
Во-вторых, истина, как она достигается человеческим познанием, включает два фактора: мысль и ее объект. И этот факт как раз и дает начало теории истины как соответствия. Адекватная теория истины как когерентности должна, следовательно, быть способна объяснить, как следует концептуализировать это отчуждение от целостности, от абсолютного опыта, которое вызывает относительную независимость субъекта и объекта, идеального содержания и внешней реальности, внутри человеческого познания. Но Йоахим признает, что такое объяснение никогда не давалось.
В-третьих, поскольку всякое человеческое познание подразумевает мысль о Другом (то есть другом, чем само себя), всякая теория природы истины, включая теорию когерентности, должна быть теорией об истине как ее Другом, как о чем-то, о чем мы мыслим и высказываем суждение. Что равносильно тому, чтобы сказать, что «теория истины как когерентности, как она сама признает, никогда не может превзойти уровень познания, который, в лучшем случае, достигает "истины" соответствия».
С замечательной откровенностью Йоахиму нисколько не стыдно признать «крушение» своих усилий по установлению адекватной теории истины. Иначе говоря, он не может ответить на проблемы, которые ставит теория когерентности. В то же время он убежден, что такая теория продвигает нас дальше, чем любая другая, в отношении проблемы истины, и что ее можно защищать от возражений, фатальных для других теорий, хотя теория когерентности и ставит вопросы, на которые нельзя ответить. Однако вполне ясно, что окончательная причина, по которой Йоахим придерживается теории когерентности, несмотря на проблемы, которые она решительно ставит, является метафизической, определенным убеждением о природе реальности. Действительно, он прямо говорит, что не верит, что «метафизик может согласиться с определенными логическими теориями, когда успех таких теорий требует от него принятия ряда гипотез, в области логики, которые его собственная метафизическая теория осуждает». Иначе говоря, абсолютный идеализм в метафизике требует теории истины как когерентности в области логики. И несмотря на проблемы, которые такая теория ставит, мы можем принять ее с хорошими основаниями, если другие теории истины неизбежно превращаются в теорию когерентности при попытке точно их сформулировать.
Чтобы судить, превращаются ли другие теории истины на самом деле в теорию когерентности, мы должны принять во внимание замечание самого Йоахима о том, что когерентность здесь означает не просто формальную непротиворечивость. Признание того, что два взаимно несовместимых предложения не могут быть одновременно истинными, не равносильно принятию теории истины как когерентности. Как ее представляет Йоахим, когда он говорит о проблемах, которые она ставит, теория явно является метафизической теорией, частью и принадлежностью абсолютного идеализма. Таким образом, вопрос состоит в том, рушатся ли все другие теории истины в конечном счете полностью под критическим рассмотрением или они подразумевают обоснованность абсолютного идеализма. И вряд ли кто-либо, кто уже не является абсолютным идеалистом, признает, что такова ситуация. Но я не собираюсь намекать, что когерентность не имеет ничего общего с истиной. Фактически, мы часто используем когерентность как проверку, когерентность между уже установленными истинами. И спорно, что это подразумевает метафизическое убеждение о природе реальности. Но из этого не следует с необходимостью, что это имплицитная вера абсолютного идеализма. В любом случае, как откровенно признает сам Йоахим, если предложение истинно лишь постольку, поскольку оно представляет момент абсолютного опыта, превосходящего нашу способность познания, очень трудно понять, как можно знать, что предложение истинно. И тем не менее, мы уверены, что можем иметь некоторое знание об этом. Возможно, существенным требованием для любой попытки сформулировать «теорию» истины является тщательное исследование способов, какими термины «истинный» и «истина» используются в обычном языке.