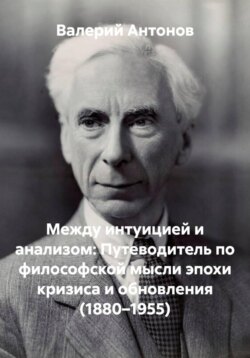Читать книгу Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955) - Валерий Антонов - Страница 4
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ОглавлениеРАННИЕ ЭТАПЫ ДВИЖЕНИЯ.
1. Историческое введение.
Во второй половине XIX века идеализм стал преобладающим философским направлением в британских университетах. Речь, конечно, шла не о субъективном идеализме. Последний, если где и возникал, то как логическое следствие феноменализма, ассоциируемого с именами Юма (XVIII век) и Дж. С. Милля (XIX век). Эмпиристы-феноменалисты пытались редуцировать физические объекты и ум к впечатлениям или ощущениям, а затем реконструировать их посредством принципа ассоциации идей. Это подразумевало тезис о том, что в основе мы познаём лишь феномены как впечатления, а метафеноменальные реальности, если и существуют, то непознаваемы. В отличие от них, идеалисты XIX века были убеждены, что «вещи в себе», будучи выражениями единой духовной реальности, проявляющейся в человеческом уме и через него, по сути своей познаваемы. Субъект и объект коррелятивны, поскольку оба укоренены в высшем духовном начале. Таким образом, это был скорее объективный, нежели субъективный идеализм[13741].
Следовательно, британский идеализм XIX века представляет собой возрождение спекулятивной метафизики[13751]. Любое проявление духа может быть, в принципе, познано человеческим духом. А весь мир в целом есть проявление духа. Наука – это лишь один из уровней познания, один аспект всеобъемлющего знания, к которому стремится ум, даже если он не может полностью его осуществить. Задача философской метафизики – завершить этот синтез.
Идеалистическая метафизика была, таким образом, метафизикой духовного, поскольку для неё конечная реальность была каким-то образом духовна. Отсюда следовало яростное противостояние идеализма материализму. Строго говоря, феноменалистов нельзя честно назвать материалистами, учитывая, что они пытались преодолеть спор между материализмом и спиритуализмом, сводя физические объекты и ум к феноменам, которые нельзя однозначно определить ни как духовные, ни как материальные. Однако эти феномены явно отличались от единой духовной реальности идеалистов. В любом случае, мы видели, что в наиболее позитивистском крыле эмпиристского движения возник как минимум методологический материализм – так называемый научный материализм, течение, не снискавшее симпатий идеалистов.
Подчёркивая духовный характер конечной реальности и связь между конечным и бесконечным духом, идеализм рассматривался как религиозная перспектива, противостоящая позитивизму и общей тенденции эмпиризма либо игнорировать религиозные проблемы, либо, в лучшем случае, допускать некий расплывчатый агностицизм. Действительно, популярность идеализма во многом объяснялась убеждённостью, что он твёрдо стоит на стороне религии. Конечно, у Брэдли, величайшего из английских идеалистов, понятие Бога трансформировалось в понятие Абсолюта, а религия определялась как уровень сознания, превзойдённый спекулятивной метафизикой; в то же время кембриджский идеалист Мак-Таггарт был атеистом. Однако у ранних идеалистов религиозный мотив был гораздо явственнее, и идеализм представал естественным прибежищем тех, кто стремился сохранить религиозное мировоззрение перед лицом угрожающих атак агностиков, позитивистов и материалистов[13761]. Позже, после Брэдли и Бозанкета, идеализм эволюционировал от абсолютного к персоналистическому и вновь проявил расположение к христианскому теизму, хотя к тому времени импульс движения уже иссяк.
Было бы, однако, ошибкой полагать, что британский идеализм XIX века представлял собой просто отход от практических интересов Бентама и Милля к метафизике Абсолюта. Он сыграл значительную роль в развитии социальной философии. В целом, этическая теория идеалистов делала акцент на идее самореализации, совершенствования человеческой личности как органического целого – идее, имевшей больше общего с аристотелизмом, нежели с бентамизмом. И она рассматривала функцию государства как создание условий, в которых индивиды могли бы развивать свои возможности как личности. Поскольку идеалисты склонны были интерпретировать создание таких условий как устранение препятствий, они, разумеется, могли – подобно утилитаристам – утверждать, что государство должно как можно меньше вмешиваться в свободу индивида. Они не были заинтересованы в замене свободы подчинением. Но поскольку они понимали свободу как возможность реализовать потенциал человеческой личности, а устранение некоторых препятствий на этом пути, по их мнению, требовало значительного объёма социального законодательства, они не стеснялись поддерживать активность государства, выходящую далеко за рамки того, что допускали самые рьяные сторонники политики laissez-faire. Можно сказать, что в конце XIX века социальная и политическая теория идеалистов в большей степени отвечала очевидным потребностям времени, чем позиция Герберта Спенсера. Бентамизм и философский радикализм, несомненно, сыграли полезную роль в первой половине столетия. Однако реформированный либерализм, пропагандируемый идеалистами конца века, никоим образом не был «реакционным». Его взор был обращён в будущее, а не в прошлое.
Возможно, предыдущие замечания создают впечатление, что идеализм XIX века в Британии был лишь естественной реакцией на эмпиризм, позитивизм, а также на экономику и политическую теорию laissez-faire. Однако на самом деле германская мысль, особенно последовательно Канта и Гегеля, оказала значительное влияние на развитие британского идеализма. Некоторые авторы, в частности Дж. Х. Мюирхед[1377], утверждали, что британские идеалисты XIX века были наследниками платоновской традиции, проявившейся в XVII веке в мысли кембриджских платоников и в философии Беркли в XVIII веке. Но хотя полезно помнить, что британская философия не носила исключительно эмпиристского характера, трудно доказать, что идеализм XIX века можно честно рассматривать как органичное развитие имманентной платоновской традиции. Влияние германской мысли, в особенности Канта и Гегеля[13781], нельзя сбрасывать со счетов как чисто случайный фактор. Верно и то, что ни один значительный британский идеалист не может быть назван, в обычном смысле слова, последователем Канта или Гегеля. Брэдли, например, был оригинальным мыслителем. Но это никоим образом не означает, что влияние германской мысли было незначительным фактором в развитии британского идеализма.
Ограниченное знакомство с Кантом было доступно английским читателям ещё при жизни философа. В 1795 году ученик Канта Ф. А. Ничш прочитал в Лондоне несколько лекций о критической философии, а в следующем году опубликовал свой перевод «Принципов критической философии» И. Я. Бека; в 1798 году А. Ф. М. Виллих издал «Элементы критической философии». Перевод «Метафизики нравов» Канта, выполненный Ричардсоном, появился в 1799 году; но первый перевод «Критики чистого разума», сделанный Ф. Хэйвудом, вышел лишь в 1883 году; серьёзные исследования Канта, такие как фундаментальный труд Э. Керда «Критический обзор философии Канта» (1877), появились значительно позже. Тем временем влияние немецкого философа, наряду со многими другими влияниями, проявилось у поэта Кольриджа, чьи идеи будут рассмотрены далее, и более явно у сэра Уильяма Гамильтона, хотя кантовский элемент в мысли Гамильтона наиболее заметен в его теории о пределах человеческого познания и в вытекающем отсюда агностицизме относительно природы конечной реальности.
Среди собственно английских идеалистов влияние Канта особенно ощутимо у Т. Х. Грина и Э. Керда. Однако оно смешивалось с влиянием Гегеля. Более конкретно, Канта рассматривали как предшественника Гегеля и читали, как уже говорилось, через гегельянские очки. Действительно, в работе Дж. Х. Стирлинга «Секрет Гегеля» (1865) прямо защищалась идея, что философия Канта, должным образом понятая и оценённая, ведёт непосредственно к гегельянству. Таким образом, хотя влияние Гегеля, и справедливо, более очевидно в абсолютном идеализме Брэдли и Бозанкета, чем в философии Грина, не следует делить британских идеалистов на кантианцев и гегельянцев. Не считая некоторых первопроходцев, влияние Гегеля ощущалось с самого начала движения. И поэтому не лишено оснований определять британский идеализм – как это часто делается – как неогегельянское движение, если только под этим не подразумевается принятие определённых черт гегельянства, а не следование Гегелю в отношениях учителя и ученика.
На ранних этапах британское идеалистическое движение характеризовалось пристальным вниманием к отношению субъект-объект. В этом смысле можно сказать, что идеализм имел эпистемологическое основание, поскольку отношение субъект-объект существенно для познания. Тем не менее, метафизика Абсолюта также присутствовала. Ибо субъект и объект рассматривались как укоренённые в конечной духовной реальности, выражением которой они являлись. Но отправная точка повлияла на метафизику в одном важном аспекте. Поскольку акцент изначально делался на конечном субъекте, это позволяло избежать соблазна интерпретировать Абсолют таким образом, что конечное оказывалось лишь «нереальной» видимостью Абсолюта. Другими словами, ранние идеалисты склонялись к интерпретации Абсолюта в более или менее теистическом или, в любом случае, панентеистическом смысле, сохраняя при этом монистический аспект метафизического идеализма. И это, несомненно, способствовало представлению идеализма как интеллектуальной опоры традиционной религии.
Постепенно, однако, на первый план всё больше выдвигалась идея всеобъемлющего органического целого. Так, у Брэдли «я» определялось как всего лишь «видимость» Абсолюта, как нечто не вполне реальное, если рассматривать его в его кажущейся независимости. И эта откровенная метафизика Абсолюта, что понятно, сопровождалась большим акцентом на государстве в области социальной философии. В то время как Герберт Спенсер, с одной стороны, пытался утвердить противостояние интересов свободного индивида и интересов государства, идеалисты стремились представить человека реализующим истинную свободу через участие в жизни целого.
Иными словами, в идеалистическом движении вплоть до Брэдли и Бозанкета мы можем видеть растущее влияние гегельянства. Как уже отмечалось, влияние Канта никогда не ощущалось в чистом виде, поскольку в критической философии видели предвосхищение метафизического идеализма. Но если учесть это, а также значительные различия между теорией Абсолюта у Брэдли и у Гегеля, можно сказать, что переход от отношения субъект-объект к идее органического целого как центральной точки означал растущее преобладание активного влияния Гегеля над влиянием критической философии Канта.
На последнем этапе идеалистического движения вновь возросло значение конечного «я», хотя на сей раз речь шла скорее об активном «я», человеческой личности, а не об эпистемологическом субъекте. И этот персоналистический идеализм сопровождался сближением с теизмом, за исключением примечательного случая Мак-Таггарта, который определял Абсолют как систему конечных «я».
Но хотя эта фаза персоналистического идеализма представляет определённый интерес как сопротивление конечного «я» поглощению безличным Абсолютом, она относится к периоду, когда идеализм в Британии уже уступал место новому течению мысли, связанному с именами Дж. Э. Мура, Бертрана Рассела и, позднее, Людвига Витгенштейна.
2. Литературные первопроходцы: Кольридж и Карлейль
В среде образованной публики влияние германской мысли первоначально проникло в Британию через сочинения поэтов и литераторов, таких как Кольридж и Карлейль.
(I) Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834), по-видимому, впервые познакомился с философией через сочинения неоплатоников, будучи учеником школы «Крайст Хоспитал». Однако это раннее увлечение мистической философией Плотина сменилось вольтеровской фазой, во время которой Кольридж на некоторое время проникся религиозным скептицизмом. Затем, в Кембридже, в нём пробудился энтузиазм, возможно, несколько неожиданный, к Дэвиду Хартли и его ассоциативной психологии[13791]. В действительности Кольридж считал себя более последовательным, чем Хартли. Если Хартли, утверждая, что психические процессы зависят от вибраций мозга и связаны с ними, не заявлял о телесности мысли, то Кольридж писал Саути в 1794 году, что верит в телесность мысли, то есть в то, что она есть движение. Кольридж одновременно сочетал энтузиазм по отношению к Хартли с религиозной верой[13801]. Впоследствии он пришёл к мысли, что научный рассудок неадекватен как ключ к реальности, и начал говорить о роли интуиции и важности морального опыта. Позднее он утверждал, что система Хартли, насколько она отличается от аристотелизма, несостоятельна[13811].
Различение Кольриджем научного рассудка и высшего разума (или, как сказали бы немцы, между Verstand и Vernunft) было выражением его бунта против духа Просвещения XVIII века. Разумеется, он не хотел сказать, что научный и критический рассудок следует отвергнуть во имя высшего, интуитивного разума. Скорее, его идея заключалась в том, что первый не всегда является полезным инструментом интерпретации реальности и нуждается в дополнении и уравновешивании вторым, то есть интуитивным разумом. Нельзя сказать, чтобы Кольридж очень ясно объяснил разницу между рассудком и разумом. Однако общее направление его мысли достаточно ясно. В работе «Помощь для размышления» (1825) он определяет рассудок как способность, судящую в соответствии с чувствами. Его собственная сфера – чувственный мир, на основе чувственного опыта он размышляет и обобщает. Разум же – это проводник идей, которые предполагаются всяким опытом, и в этом смысле предопределяет опыт и управляет им. Он также воспринимает истины, не проверяемые чувственным опытом, и интуитивно постигает духовные реальности. Впоследствии Кольридж отождествляет его с практическим разумом, включающим волевой и моральный аспекты человеческой личности. Таким образом, Дж. С. Милль был вполне прав, говоря в своём знаменитом эссе о Кольридже, что поэт расходится с «локковской» идеей, согласно которой всё знание состоит в обобщениях из опыта, и требует для разума, в отличие от рассудка, способности к прямому интуитивному восприятию реальностей и истин, находящихся вне досягаемости чувств[13821].
Для развития этого различения Кольридж получил стимул от сочинений Канта, которые начал изучать вскоре после своей поездки в Германию в 1798–1799 годах[13831]. Однако он, кажется, стремится показать, что Кант не только ограничил область рассудка познанием феноменальной реальности, но и мыслил об интуитивном постижении духовных реальностей посредством разума; тогда как на самом деле, приписывая такую силу разуму, скорее отождествляемому с практическим разумом, Кольридж явно отходит от немецкого философа. Более прочную основу он находит, демонстрируя свою близость к Якоби[13841], утверждая, что отношение между разумом и духовными реальностями аналогично отношению между глазом и материальными объектами.
Впрочем, никто не стал бы утверждать, что Кольридж был кантианцем. В Канте он нашёл стимул, а не учителя. И хотя он признавал свой долг перед немецкими мыслителями, особенно Кантом, ясно, что считал свою собственную философию фундаментально вдохновлённой платонизмом. В «Помощи для размышления» он сказал, что каждый человек рождается либо платоником, либо аристотеликом. Аристотель, великий учитель ума, был чрезмерно привязан к земле. «Он начал с чувственного и никогда не допускал ничего, находящегося сверх чувств, кроме как по необходимости, в качестве единственной сохранившейся гипотезы…»[13851] То есть Аристотель постулировал духовную реальность лишь в крайнем случае, когда его вынуждало к этому объяснение физических явлений. Платон же искал сверхчувственную реальность, которая открывается нам через разум и моральную волю. Что касается Канта, то Кольридж иногда говорит, что он по духу принадлежит к аристотеликам, в то время как в других случаях подчёркивает метафизические аспекты мысли Канта и обнаруживает в нём близость к платонизму. Другими словами, Кольридж принимает кантовское ограничение сферы рассудка феноменальной реальностью, а затем склонен интерпретировать эту теорию разума в свете платонизма, в свою очередь интерпретируемого в свете философии Плотина.
Не следует понимать эти замечания как свидетельство какого-либо пренебрежения Кольриджа к Природе. Напротив, Кольридж испытывает отвращение к «хвастливой и сверхстоической враждебности Фихте к Природе, рассматриваемой как нечто безжизненное, безбожное и вообще профанное»[13861]. И он проявляет глубокую симпатию к философии Природы Шеллинга, а также к его системе трансцендентального идеализма, в которой, как он говорит, «я впервые нашёл родственный отклик на многое из того, чего я достиг собственными усилиями, и мощную поддержку в том, что мне осталось сделать»[13871]. Строго говоря, Кольриджу нелегко отклонить обвинение в плагиате; он утверждает, что и он, и Шеллинг черпали из одних и тех же источников: сочинений Канта, философии Джордано Бруно и спекуляций Якоба Бёме. Однако влияние Шеллинга кажется вполне очевидным в той линии мысли, которую мы кратко изложим далее.
«Всякое знание покоится на совпадении объекта и субъекта»[13881]. Но хотя субъект и объект соединены в акте познания, мы можем спросить, какой из них первичен. Следует ли исходить из объекта и пытаться добавить к нему субъекта? Или исходить из субъекта и пытаться найти путь к объекту? Иными словами, следует ли утверждать приоритет Природы и пытаться добавить к ней мысль или рассудок, или утверждать приоритет мысли и пытаться вывести из неё Природу?[13891] Кольридж отвечает, что ни то, ни другое невозможно. Высший принцип следует искать в тождестве субъекта и объекта.
Где находится это тождество? «Лишь в самосознании духа обнаруживается требуемое тождество объекта и репрезентации»[13891]. Но если дух в принципе есть тождество субъекта и объекта, он каким-то образом должен растворить это тождество, чтобы стать сознающим себя в качестве объекта. Следовательно, самосознание может возникнуть только через акт воли, и «следует мыслить, что свобода должна быть принята в качестве основания философии и никогда не может быть выведена из неё»[13901]. Дух становится субъектом, познавая себя как объект, только через «акт объективации себя для себя самого»[13911].
Таким образом, кажется, что Кольридж начинает с постановки вопросов, которые задаёт Шеллинг; затем даёт ответ Шеллинга, а именно, что должна постулироваться изначальная тождественность субъекта и объекта; и, наконец, переходит к идее Фихте об «Я», которое конституирует себя как субъект и объект через изначальный акт. Однако Кольридж не намерен резко останавливаться на «Я» как конечном принципе, особенно если под этим понимать конечное «Я». На самом деле, Кольридж высмеивает «эгоизм» Фихте[13921]. Вместо этого он настаивает, что для достижения абсолютного тождества субъекта и объекта, идеального и реального, как конечного принципа не только человеческого познания, но и всей реальности, мы должны «возвысить нашу концепцию до абсолютного Я, великого и вечного Я есмь»[13931]. Кольридж критикует Cogito, ergo sum Декарта и ссылается на различение Канта между эмпирическим и трансцендентальным «Я». Но затем он утверждает, что трансцендентальное «Я» – это абсолютное «Я есмь Сущий» из Книги Исхода[13941] и Бог, в котором конечное «Я» должно одновременно и потерять себя, и обрести.
Очевидно, всё это весьма туманно и неопределённо. Однако в любом случае ясно, что Кольридж противопоставляет спиритуалистическую интерпретацию человеческого «Я» материализму и феноменализму. И очевидно, что именно эта интерпретация «Я», по его мнению, обеспечивает необходимую основу для утверждения, что разум способен постигать сверхчувственную реальность. Действительно, в своём эссе о вере Кольридж определяет её как верность нашему собственному бытию, поскольку наше бытие не является и не может стать объектом чувственного опыта. Наше моральное призвание требует подчинения аппетита и воли разуму; и именно разум постигает Бога как тождество воли и разума, как основание нашего существования и как бесконечное выражение идеала, к которому мы как моральные существа стремимся. Иными словами, перспектива Кольриджа была по сути религиозной, и он стремился соединить философию и религию. Возможно, как отмечает Милль, он пытался превратить христианские таинства в философские истины. Но важным элементом миссии идеализма, как её понимали его более религиозные последователи, было именно предоставление метафизического основания христианской традиции, которая явно казалась лишённой философской поддержки.
В области социальной и политической теории Кольридж был консерватором в том смысле, что выступал против иконоборчества радикалов и желал сохранения и реализации ценностей, присущих традиционным институтам. Правда, в течение некоторого времени он, как и Вордсворт с Саути, был увлечён идеями, вдохновлёнными Французской революцией. Однако он отошёл от радикализма своей юности, хотя его поздний консерватизм проистекал не из отвращения к переменам как таковым, а из веры в то, что институты, созданные национальным духом на протяжении истории, воплощали подлинные ценности, которые людям надлежит стремиться понять. Как говорит Милль, Бентам требовал «уничтожения существовавших до тех пор институтов и верований», тогда как Кольридж требовал, «чтобы они стали реальностью»[13951].
(II) Томас Карлейль (1795–1881) принадлежал к поколению, следующему за Кольриджем; но он был гораздо менее систематичен, чем последний, в изложении своих философских идей, и, без сомнения, многие сегодня находят совершенно нечитаемой его бурную прозу «Sartor Resartus». Тем не менее, он был одним из каналов, по которым германская мысль и литература привлекли внимание англичан.
Первоначальная реакция Карлейля на немецкую философию была не особенно благоприятной, и он высмеивал тёмность Канта и претензии Кольриджа. Однако в своём отвращении к материализму, гедонизму и утилитаризму он пришёл к тому, чтобы видеть в Канте блестящего врага Просвещения и его последствий. Так, в своём эссе «О состоянии немецкой литературы» (1827) он хвалил Канта за то, что тот шёл изнутри вовне, вместо того чтобы следовать локковскому пути, состоявшему в исхождении из чувственного опыта и попытке построить на этой основе философию. Кантианец, по Карлейлю, видит, что фундаментальные истины постигаются интуитивно в самой внутренней природе человека. Иными словами, Карлейль сближается с Кольриджем, используя кантовское ограничение мощи и границ рассудка как основание для утверждения способности разума интуитивно постигать базовые истины и духовные реальности.
Для Карлейля характерно живое чувство тайны мира и его природы как видимости чувственной реальности или как покрова, наброшенного на неё. В эссе «О состоянии немецкой литературы» он пишет, что конечная цель философии – интерпретировать феномены или видимости, перейти от символа к символизируемой реальности. И эта точка зрения выражена в «Sartor Resartus»[13961] под маркой философии одежд. Эта теория может быть применена к человеку как микрокосму. «Что есть человек для вульгарного логика? Двуногий всеядный, носящий брюки. Что есть человек для чистого разума? Душа, дух, божественное явление… Он глубоко сокрыт под этим странным одеянием»[13971]. И эта аналогия может быть применена и к макрокосму, миру в целом. Ибо мир есть, как предсказывал Гёте, «живое видимое одеяние Бога»[13981].
В эссе «О состоянии немецкой литературы» Карлейль прямо связывает свою философию символизма с Фихте, поскольку тот интерпретирует видимую вселенную как символ и чувственное проявление всепроникающей божественной Идеи, постижение которой есть необходимое условие всякой подлинной добродетели и свободы. И действительно, нетрудно понять пристрастие Карлейля к Фихте. Ибо, рассматривая – как он это делает – человеческую жизнь и историю как постоянную борьбу между светом и тьмой, между Богом и злом, борьбу, в которой каждый человек призван участвовать и сделать важнейший выбор, естественно, что он привлекается моральной серьёзностью Фихте и его идеей Природы как всего лишь поля, на котором человек осуществляет своё моральное призвание, поля препятствий – так сказать, – которые человек должен преодолеть в процессе достижения своего идеального конца.
Эта перспектива помогает понять озабоченность Карлейля героем, проявившуюся в его лекциях 1840 года «О героях, почитании героя и героическом в истории». Противопоставляя материализму и тому, что он называет «философией выгоды и потери», он утверждает идеи героизма, морального призвания и личной преданности. Действительно, он не стесняется говорить, что «живительное дыхание всякого общества [есть] не более чем эффект “культа героя”, поклонного восхищения истинно великим. Общество основано на культе героя»[13991]. Более того, «Всемирная история, история того, что человек совершил в мире, есть, в конечном счёте, история “великих людей”, которые действовали здесь»[14001].
Эта настойчивость на роли «великих людей» в истории ставит Карлейля рядом с Гегелем[14011] и предвосхищает в некоторых аспектах Ницше, хотя культ героя в политической сфере – это идея, которую мы, вероятно, рассматривали бы сегодня с иными чувствами. Тем не менее, ясно, что Карлейля особенно привлекали в его героях их серьёзность и преданность, а также их свобода от морали, основанной на гедонистическом расчёте. Например, хотя он был сознавал недостатки и дефекты характера Руссо, сделавшие его «печально умалённым героем»[14021], Карлейль настаивает, что этот маловероятный кандидат в герои обладал «первой и главной характеристикой героя: глубокой серьёзностью. Настолько серьёзный, насколько это возможно, если вообще кто-либо был таковым; серьёзный как никто из французских философов»[14031].
3. Феррье и отношение субъект-объект
Несмотря на публичные заявления обоих, было бы бесполезно искать у Кольриджа и Карлейля систематического развития идеализма. Если мы хотим найти первопроходца в этой области, нам следует обратиться к Джеймсу Фредерику Феррье (1808–1864), занимавшему кафедру моральной философии в Университете Сент-Эндрюса с 1845 года до своей смерти и чья философия принимает решительно систематический характер.
В 1838–1839 годах Феррье опубликовал в журнале Blackwood's Magazine серию статей под названием «Введение в философию сознания». В 1854 году вышла его основная работа «Основания метафизики», примечательная тем, как автор развивает свою доктрину в серии положений, каждое из которых, за исключением первого фундаментального, должно строго логически выводиться из предыдущего. В 1856 году он опубликовал «Шотландскую философию», а его «Лекции по греческой философии и другие философские работы» появились посмертно в 1866 году.
Феррье утверждал, что его философия шотландская до мозга костей. Это не означает, что он считал себя сторонником шотландской философии здравого смысла. Напротив, он резко критиковал Рида и его последователей. Во-первых, философ не должен прибегать к множеству недоказанных первых принципов, а должен использовать дедуктивный метод, присущий метафизике, а не произвольный экспозиционный приём. Во-вторых, шотландские философы здравого смысла склонны смешивать метафизику с психологией вместо обращения к строгому логическому рассуждению[14041]. Что касается сэра Уильяма Гамильтона, то его агностицизм относительно Абсолюта был неуместен.
Заявляя, что его философия шотландская до мозга костей, Феррье хотел дать понять, что не заимствовал её у немцев. Хотя его система не раз рассматривалась как гегельянская, он утверждал, что никогда не был способен понять Гегеля[14051]. Более того, он сомневался, что немецкий философ способен был понять самого себя. И в любом случае, Гегель исходит из Бытия, тогда как его собственная философия берёт в качестве отправной точки познание[14061].
Первый шаг Феррье состоит в поиске абсолютной отправной точки метафизики в положении, устанавливающем неизменный и существенный элемент всякого познания и которое не может быть отрицаемо без противоречия. Такой отправной точкой является то, что «всякий интеллект, познавая что бы то ни было, должен сопровождаться апперцепцией себя самого, как основания или условия своего познания»[14071]. Объект познания – изменчивый фактор. Но я не могу познать ничего, не зная, что это я познаю. Отрицать это – абсурдно. Утверждать это – значит признать, что не существует познания без самосознания, без определённого знания о «я».
Отсюда следует, продолжает Феррье, что ничто не может быть познано иначе как в отношении к субъекту, к «я». Иными словами, объект познания по сути есть «объект для субъекта». И Феррье приходит к выводу, что ничто не может быть мыслимо иначе как в отношении к субъекту. Откуда следует, что материальная вселенная немыслима как существующая без отношения к субъекту.
Критик, возможно, склонен заметить, что Феррье на самом деле говорит лишь то, что я не могу думать о вселенной, не думая о ней, или что я не могу познавать, не познавая её. Если он не говорит больше этого; если, в частности, он совершает переход от эпистемологического аспекта к утверждению онтологического отношения, то, кажется, следует солипсистский вывод, а именно, что существование материального мира немыслимо, если не сделать его зависящим от меня самого как субъекта.
Однако Феррье хочет удержать два положения. Первое: мы не можем мыслить вселенную как «отделённую от всякого Я. Невозможно осуществить такую абстракцию»[14081]. Второе: каждый из нас может отделить вселенную от себя самого, в частности. Из обоих положений следует, что хотя «каждый из нас может отпрячь вселенную (так сказать) от себя, он может сделать это лишь запрягая её мысленно в какое-либо другое Я»[14091]. Это существенный шаг для Феррье, потому что он хочет утверждать, что вселенная немыслима, если только она не существует в синтезе с божественным интеллектом.
Таким образом, первая часть «Оснований метафизики» призвана доказать, что абсолютным элементом познания является синтез субъекта и объекта. Однако Феррье не сразу приходит к этому окончательному выводу. Вместо этого он посвящает вторую часть «агнойологии», теории «незнания». Можно сказать, что мы пребываем в состоянии неведения относительно противоречий необходимых истинных положений. Но это, несомненно, не признак несовершенства интеллекта. Что касается незнания, нас можно назвать незнающими лишь по отношению к тому, что в принципе познаваемо. Следовательно, мы не можем быть незнающими, например, относительно материи «самой по себе» (без отношения к субъекту). Ибо она немыслима и непознаваема. Кроме того, если исходить из предположения, что мы незнающи относительно Абсолюта, то следует, что Абсолют непознаваем. Таким образом, агностицизм Гамильтона несостоятелен.
Но что такое Абсолют или, как говорит Феррье, Абсолютное Существование? Это не может быть ни материя сама по себе, ни дух сам по себе. Ибо ни то, ни другое немыслимо. Следовательно, это должен быть синтез субъекта и объекта. Тем не менее, лишь один такой синтез необходим. Ибо хотя существование вселенной немыслимо иначе как «объект для субъекта», мы уже видели, что вселенная может быть отпряжена или отделена от любого данного конечного субъекта. Таким образом, «существует одна, и не более чем одна, строго необходимая Абсолютная Сущность; и эта сущность есть высший, бесконечный и вечный Интеллект в синтезе со всеми вещами»[14101].
В качестве комментария уместно обратить внимание на достаточно очевидный факт, что утверждение «не может быть субъекта без объекта и объекта без субъекта» аналитически истинно, если термины «субъект» и «объект» понимаются в их эпистемологическом смысле. Также верно, что никакая материальная вещь не может быть помыслена иначе как «объект для субъекта», понимая под этим, что никакая материальная вещь не может быть помыслена, не будучи конституирована («интенционально», как сказали бы феноменологи) как объект. Но это, кажется, мало что добавляет к утверждению, что о вещи нельзя думать, если её не думают. И отсюда не следует, что вещь не может существовать, если о ней не думают. Феррье мог бы, конечно, возразить, что мы не можем логично говорить о вещи как существующей независимо от её осмысления. Ибо сам факт говорения о ней означает её осмысление. Если я пытаюсь мыслить материальную вещь X как существующую вне отношения субъект-объект, моя попытка терпит неудачу из-за того, что я мыслю об X. В таком случае, однако, вещь, кажется, необратимо запряжена, как говорит Феррье, в меня как субъекта. И как же я могу её отпрячь? Если я пытаюсь отпрячь её от себя самого и запрячь в какого-либо другого субъекта, конечного или бесконечного, не становится ли этот другой субъект, согласно предпосылкам Феррье, «объектом для субъекта», где субъектом являюсь я сам?
Я не намерен намекать, что материальная вселенная действительно могла бы существовать независимо от Бога. Скорее, дело в том, что вывод о невозможности такого существования на самом деле не следует из эпистемологических предпосылок Феррье. Вывод, который, кажется, следует из них, – солипсизм. И Феррье избегает этого вывода, лишь апеллируя к здравому смыслу и нашему знанию исторических фактов; то есть, поскольку я не могу всерьёз предположить, что материальная вселенная является лишь объектом для меня как субъекта, я должен постулировать вечный, бесконечный субъект: Бога. Но из предпосылок Феррье, кажется, следует, что «Бог сам по себе», будучи помысленным мной, должен быть «объектом для субъекта», где я – субъект.
4. Критика феноменализма и гедонизма Джоном Гротом
Среди современников Феррье следует упомянуть Джона Грота (1813–1866), брата историка. Профессор моральной философии в Кембридже с 1855 по 1866 год, в 1865 году он опубликовал первую часть «Философских исследований». Вторая часть вышла посмертно в 1900 году. Его «Исследование утилитарной философии» (1870) и «Трактат о моральных идеалах» (1876) также были опубликованы после его смерти. Конечно, сегодня Грот ещё менее известен, чем Феррье, хотя его критика феноменализма и утилитаристского гедонизма не лишена ценности.
Критика феноменализма, проводимая Гротом, может быть объяснена следующим образом: один из главных элементов позитивистского феноменализма – это первоначальная редукция объекта познания к ряду феноменов, а затем применение такого редуктивного анализа к субъекту, эго или «я». Таким образом, субъект сводится к своему собственному объекту. Или, если угодно, субъект и объект сводятся к ряду феноменов, принимаемых за базовую реальность, конечные сущности, из которых ментальным процессом могут быть реконструированы «я» и физические объекты. Однако можно показать, что такая редукция «я» или субъекта несостоятельна. Во-первых, нельзя разумно говорить о феноменах, не соотнося их с сознанием. Ибо то, что является, является перед субъектом внутри сферы, так сказать, сознания. Мы не можем выйти за пределы сознания; его анализ показывает, что оно по сути включает отношение субъект-объект. В примитивном сознании субъект и объект присутствуют смутно или виртуально и постепенно дифференцируются в развитии сознания, пока не возникает явного признания мира объектов, с одной стороны, и «я» или субъекта – с другой, причём особенно такое признание «я» развивается через опыт усилия. Таким образом, поскольку субъект присутствует изначально как один из существенных полюсов, даже в примитивном сознании, он не может быть правомерно сведён к объекту, к ряду феноменов. В то же время, изучение существенной структуры сознания показывает, что мы не имеем дело с «замкнутым в себе» «я», от которого, как в философии Декарта, необходимо перебросить мост к не-«я».
Во-вторых, важно отметить, как феноменалисты упускают из виду активную роль субъекта в конструировании артикулированной вселенной. Субъект или «я» характеризуется целеполагающей активностью: он имеет цели. И в преследовании этих целей он конструирует единства среди феноменов, не в том смысле, что налагает априорные формы на массу несвязанных и хаотичных данных[14111], но скорее в том смысле, что он конструирует свой мир экспериментальным путём, посредством процесса самокоррекции[14121]. Таким образом, опять же по этой причине, в силу активной роли «я» в конструировании мира объектов, ясно, что оно не может быть сведено к ряду феноменов, к его непосредственным объектам.
В области моральной философии Грот яростно выступал против эгоистического гедонизма и утилитаризма. Он критиковал их не за учёт человеческой чувствительности и стремления к счастью. Напротив, сам Грот признавал в науке о счастье – «эвдемонике», как он её называл, – часть этики. Он выступал против исключительной концентрации на поиске удовольствия и последующего пренебрежения другими аспектами человеческой личности, особенно способностью человека к концептуализации и преследованию идеалов, трансцендирующих поиск удовольствия и могущих требовать самопожертвования. Так, к «эвдемонике» он добавил «аретику», науку о добродетели. И он настаивал, что моральная задача состоит в объединении низших и высших элементов человеческой природы на службе моральным идеалам. Ибо наши действия являются моральными, когда они переходят из сферы чистой спонтанности – как при следовании импульсу к удовольствию – в сферу обдуманного и волевого, где импульс поставляет динамический элемент, а интеллектуально постигнутые принципы и идеалы – регулирующий.
Очевидно, что критика Гротом утилитаризма за забвение высших аспектов человека при исключительной концентрации на поиске удовольствия лучше применима к бентамовскому гедонизму, чем к версии утилитаризма, переработанной Дж. С. Миллем. Однако в любом случае речь шла не столько о том, чтобы указать, что утилитаристский философ не мог бы предоставить адекватную теоретическую рамку для таких идеалов. Основная идея Грота заключалась в том, что это могло быть разрешено только через радикальный пересмотр концепции человека, унаследованной Бентамом от таких авторов, как Гельвеций. Гедонизм, согласно Гроту, не мог объяснить сознание долга. Ибо такое сознание возникает, когда человек, концептуализируя моральные идеалы, чувствует необходимость подчинить свою низшую природу высшей.
5. Возрождение интереса к греческой философии и рост интереса к Гегелю: Б. Джоуэтт и Дж. Х. Стирлинг
Можно без труда увидеть связь между идеалистическим восприятием неадекватности бентамовского понятия человеческой природы и возрождением интереса к греческой философии, имевшим место в университетах, особенно в Оксфорде, на протяжении XIX века. Мы уже видели, что Кольридж считал свою философию фундаментально платонической по вдохновению и характеру. Но возрождение платоновских исследований в Оксфорде особенно ассоциируется с именем Бенджамина Джоуэтта (1817–1893), который стал членом Баллиол-колледжа в 1838 году и занимал кафедру греческого языка с 1855 по 1893 год. Недостатки его знаменитого перевода «Диалогов» Платона сейчас не важны. Факт в том, что на протяжении своей долгой педагогической карьеры он мощно способствовал возрождению интереса к греческой мысли. И не лишено значения, что Т. Х. Грин и Э. Керд, оба видные фигуры идеалистического движения, были его учениками. Интерес к Платону и Аристотелю естественно склонял мысль от гедонизма и утилитаризма к этике собственного совершенствования, основанной на метафизически структурированной теории человеческой природы.
Возрождение интереса к греческой мысли сопровождалось растущим уважением к немецкому идеалистическому мышлению. Сам Джоуэтт интересовался последним, особенно мыслью Гегеля[14131], и способствовал стимулированию изучения немецкого идеализма в Оксфорде. Однако первая масштабная попытка прояснить те, казавшиеся Феррье едва ли постижимыми, глубины Гегеля была предпринята шотландцем Джеймсом Хатчисоном Стирлингом (1820–1909) в его двухтомной работе «Секрет Гегеля», вышедшей в 1865 году[14141].
Стирлинг увлёкся Гегелем во время поездки в Германию, особенно во время пребывания в Гейдельберге в 1856 году; результатом стал «Секрет Гегеля». Несмотря на замечания, что если автор и знал секрет Гегеля, то тщательно хранил его при себе, книга знаменует в Англии начало серьёзных исследований гегельянства. По мнению Стирлинга, философия Юма была кульминацией Просвещения, тогда как Кант[14151], взяв ценное из мысли Юма и применив его к развитию новой линии размышления, довёл Просвещение до зрелости и одновременно превзошёл и трансцендировал его. Тем не менее, хотя Кант заложил основания идеализма, именно Гегель возвёл и завершил здание. И понять секрет Гегеля – значит понять, как он сделал эксплицитной доктрину конкретного универсального, которая была имплицитна в критической философии Канта.
Примечательно, что Стирлинг видел в Гегеле не только современного философа, подобно тому как Аристотель был вершиной греческой мысли, но и величайшего интеллектуального защитника христианской религии. Без сомнения, он приписывал Гегелю чрезмерно высокую степень теологической ортодоксии; но его отношение служит иллюстрацией религиозного интереса, характеризовавшего идеалистическое движение до Брэдли. По Стирлингу, Гегель стремился доказать, среди прочего, бессмертие души. И хотя мало свидетельств того, что Гегель проявлял большой интерес к этой теме, интерпретация Стирлинга может быть понята как отражение акцента, который ранние идеалисты делали на конечном духовном «я», акцента, гармонировавшего с их склонностью сохранять более или менее теистическую перспективу.
РАЗВИТИЕ ИДЕАЛИЗМА.
1. Отношение Т. Х. Грина к британскому эмпиризму и немецкой мысли
Часто философы бывают более убедительны, когда критикуют идеи других философов, чем когда излагают собственные теории. И это, возможно, несколько циничное наблюдение, кажется, применимо к Томасу Хиллу Грину (1836–1882), члену Баллиол-колледжа в Оксфорде и профессору моральной философии Уайта в том же университете с 1878 года до своей смерти. В своих «Введениях к “Трактату о человеческой природе” Юма»[14161], опубликованных в 1874 году в издании Юма, подготовленном Грином и Гроузом, он развил впечатляющую и обширную критику британского эмпиризма, хотя его собственная идеалистическая система не менее уязвима для критики, чем идеи, против которых он выдвинул ряд возражений.
С Локка и далее, согласно Грину, эмпиристы исходили из предположения, что задача философа состоит в том, чтобы свести наше знание к его примитивным элементам, исходным данным, а затем реконструировать мир обычного опыта из этих атомарных данных. Однако, если отвлечься от того факта, что не было дано удовлетворительного объяснения того, как интеллект может преодолеть отношение субъект-объект и обнаружить первичные данные, предположительно служащие основой для конструирования интеллектуальных и физических объектов, эмпиристская программа заводит нас в тупик. С одной стороны, чтобы конструировать мир интеллектуальных и физических объектов, интеллект должен вступить в отношение с атомарными первичными данными, с индивидуальными феноменами. Иными словами, он должен осуществить определённую активность. С другой стороны, активность интеллекта необъяснима с эмпиристских принципов, потому что она сама сводится к ряду феноменов. И как она может конструировать саму себя? Кроме того, хотя эмпиризм заявляет, что даёт отчёт о человеческом познании, на самом деле он ничего в этом отношении не делает, потому что интерпретирует мир обычного опыта как ментальную конструкцию из индивидуальных впечатлений; и нет способа узнать, представляет ли эта конструкция объективную реальность или нет. Иными словами, последовательный эмпиризм неизбежно ведёт к скептицизму.
Сам Юм, как его видит Грин, был замечательным мыслителем, который не пошёл на компромиссы и довёл принципы эмпиризма до их логического заключения. «Приняв предпосылки и метод Локка, он очистил их от всех их нелогичных приспособлений к народной вере и экспериментировал с ними на основе приобретённого знания. …В результате эксперимента метод, начавший с претензии объяснить знание, показал, что знание невозможно»[14171]. «Сам Юм вполне отдавал себе отчёт в этом результате, но его преемники в Англии и Шотландии до сих пор, кажется, были неспособны посмотреть ему прямо в лицо»[14181].
Некоторые философы после Юма – и здесь Грин явно имеет в виду шотландских философов здравого смысла – вновь погрузились в чащу некритической веры. Другие продолжали развивать теорию ассоциации идей Юма, по-видимому, игнорируя тот факт, что сам Юм продемонстрировал недостаточность принципа ассоциации для объяснения чего-либо, кроме естественной или почти инстинктивной веры[14191]. Иными словами, Юм представлял одновременно кульминацию и банкротство эмпиризма. И факел исследования «перешёл к более мощному немецкому течению»[14201].
Кант был, так сказать, духовным преемником Юма. «Таким образом, “Трактат о человеческой природе” и “Критика чистого разума”, взятые вместе, образуют настоящий мост между старой и новой философией. Они составляют существенную “пропедевтику”, без которой не может обойтись ни один хороший студент современной философии»[14211]. Это не означает, однако, что мы можем остановиться на философии Канта. Ибо Кант предвосхищает Гегеля или, во всяком случае, нечто подобное гегельянству. Грин согласен со Стирлингом, что Гегель правильно развил философию Канта; однако он не готов принять, что система Гегеля как таковая удовлетворительна. Как говорит Грин, она прекрасна для воскресений спекуляции, но её труднее принять в рамках обыденной мысли. Необходимо примирить суждения спекулятивной философии с нашими обычными суждениями о фактах и с науками. Гегельянство же, взятое само по себе, не может выполнить задачу синтеза различных тенденций и точек зрения современной мысли. Эту работу необходимо проделать заново.
Фактически, имя Гегеля не очень выделяется среди сочинений Грина. Имя Канта гораздо заметнее. Но Грин утверждал, что, читая Юма в свете Лейбница, а Лейбница в свете Юма, Кант смог освободиться от предпосылок обоих. И можно справедливо сказать, что хотя Грин во многом почерпнул свой подход из стимулов, полученных от Канта, он читал его с убеждением, что критическая философия нуждается в развитии, сходном – хотя и не точно таком же – с тем, которое она фактически получила от немецких метафизических идеалистов и в частности от Гегеля.
2. Теория вечного субъекта у Грина; некоторые критические замечания
Во введении к своим «Пролегоменам к этике», опубликованным посмертно в 1883 году, Грин ссылается на искушение трактовать этику как если бы она была разделом естественных наук. Действительно, такое искушение понятно. Ибо рост исторического знания и развитие теорий эволюции предполагают возможность чисто натуралистического и генетического объяснения феноменов моральной жизни. Но что же тогда с этикой как нормативной наукой? Ответ таков: философ, который «решительно принимает свои принципы, после сведения спекулятивной их части (наших этических систем) к естественным наукам, должен одновременно упразднить и практическую, или предписывающую часть»[14221]. Однако тот факт, что редукция этики к разделу естественных наук влечёт за собой упразднение этики как нормативной науки, должен побудить нас пересмотреть предпосылки или условия познания и моральной деятельности. Является ли человек просто дитя Природы? Или в нём есть духовное начало, делающее возможным познание, будь то познание Природы или моральное познание?
Таким образом, Грин считает необходимым начать своё исследование в области морали с метафизики познания. И он говорит прежде всего, что даже если бы мы решили в пользу материалистов все те вопросы о частных фактах, которые были предметом спора между ними и спиритуалистами, остался бы вопрос о том, как нам возможно объяснить факты. «Даже нам придётся признать, что логически в человеке, способном познавать Природу – для которого существует “космос опыта” – есть начало, не являющееся природным и которое не может быть объяснено без ὑστέρον πρότερον[1], как объясняются факты Природы»[14231].
По мнению Грина, сказать, что вещь реальна, значит сказать, что она является частью системы отношений: порядка Природы. Но признание или знание ряда связанных фактов не может само быть рядом фактов. Оно также не может быть естественным развитием из такого ряда. Иными словами, интеллект как активный синтезирующий принцип нередуцируем к факторам, которые он синтезирует. Правда, эмпирическое «я» принадлежит порядку Природы. Но моё признание себя как эмпирического «я» проявляет активность принципа, трансцендирующего этот порядок. В конечном счёте, «интеллект – поскольку этот термин кажется столь же подходящим, как и любой другой, для обозначения рассматриваемого принципа сознания – нередуцируемый ни к чему иному, “творит природу” для нас, в том смысле, что делает нас способными мыслить существование такой вещи»[14241].
Мы только что видели, что для Грина вещь реальна, поскольку она является частью системы связанных феноменов. В то же время он утверждает, что «связанные явления невозможны в отрыве от действия интеллекта»[14251]. Таким образом, Природа создаётся синтезирующей активностью интеллекта. Очевидно, однако, что мы не можем серьёзно мыслить, что Природа как система связанных феноменов является просто продуктом синтезирующей активности любого данного конечного интеллекта. Хотя можно сказать, что каждый конечный интеллект конституирует Природу, поскольку мыслит систему отношений, необходимо исходить из предположения, что существует простой духовный принцип, вечное сознание, которое в конечном счёте конституирует или производит Природу.
Отсюда следует, что мы должны мыслить конечный интеллект как причастный жизни вечного сознания или интеллекта, который «частично и постепенно воспроизводится в нас, связывая по частям, но в неразрывной корреляции, интеллект с интеллигибельным, опыт с испытанным миром»[14261]. Это равносильно утверждению, что Бог постепенно воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте. И если таково положение дел, то что можно сказать об отношении эмпирического к происхождению и развитию познания? Ибо трудно вывести из эмпирических фактов, что наше знание навязано нам Богом. Ответ Грина заключается в том, что Бог воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте, используя, так сказать, чувственную жизнь человеческого организма и его реакцию на определённые стимулы. Существуют, таким образом, два аспекта человеческого сознания. Эмпирический аспект, под которым наше сознание предстаёт как «последовательные модификации животного организма»[14271], и метафизический аспект, который рассматривает организм как то, что постепенно становится «проводником вечно реализованного сознания»[14281].
Таким образом, Грин разделяет тенденцию ранних идеалистов выбирать эпистемологическую отправную точку: отношение субъект-объект. Однако, под влиянием Канта, он описывает субъект как активный синтезатор множественности феноменов, как конституэнта порядка Природы посредством связывания различных явлений или феноменов. Этот процесс синтеза – постепенный процесс, развивающийся на протяжении истории человеческой расы к идеальной цели. И мы можем мыслить, таким образом, весь процесс как активность духовного принципа, который живёт и действует в конечных интеллектах и через них. Другими словами, кантовская идея синтезирующей активности интеллекта ведёт нас к гегелевскому понятию бесконечного духа.
В то же время религиозные интересы Грина заявляют о себе против любой редукции бесконечного духа к жизням конечных духов, рассматриваемых как простая коллективность. Правда, он хочет избежать того, что понимает как один из главных недостатков традиционного теизма, а именно представления о Боге как о Существе в противоположности миру и конечному духу. Так, он определяет духовную жизнь человека как участие в божественной жизни. Но он также хочет избежать употребления слова «Бог» как простого ярлыка для духовной жизни человека, рассматриваемой универсально – как нечто развивающееся на протяжении эволюции человеческой культуры – или для идеала тотального знания – идеала, который ещё не существует, но к которому постепенно приближается человеческое знание. Правда, он говорит о человеческом духе как «тождественном» Богу, но добавляет: «в том смысле, что Бог есть всё, чем человеческий дух может стать»[14291]. Бог есть вечный бесконечный субъект, и Его тотальное знание постепенно воспроизводится в конечном субъекте через подчинение, с эмпирической точки зрения, модификациям человеческого организма.
На вопрос, почему Бог действует таким образом, Грин ответил бы, что не может быть дано ответа. «Старый вопрос, почему Бог создал мир, никогда не имел ответа и не будет его. Мы не знаем, почему существует мир, мы только знаем, что он существует. Точно так же мы не знаем, почему вечный субъект этого мира должен воспроизводиться через определённые процессы мира как дух человечества или как частное “я” того или иного человека, в котором действует дух человечества. Мы можем только сказать, что после анализа нашего опыта как можно лучше, кажется, что обстоит дело именно так»[14301].
В идее Грина о вечном субъекте, который «воспроизводится» в конечных субъектах и который, следовательно, не может быть просто отождествлён с ними, не лишено смысла усмотреть работу религиозного интереса, заботу об идее Бога, в котором мы живём, движемся и существуем. Однако это, конечно, не явная или формальная причина для постулирования вечного субъекта. Ибо последний уже эксплицитно постулируется в качестве конечного синтезирующего агента, конституирующего систему Природы. И с этим постулатом Грин, кажется, подвергается той же самой критике, которую мы выдвинули против Феррье. Ибо если предположить, по крайней мере в порядке аргумента, что порядок Природы конституируется синтезирующей или связывающей активностью интеллекта, очевидно, что я не могу приписать такой порядок какому-либо интеллекту, или вечному субъекту, если я сначала сам не концептуализировал его, не конституировал его. И тогда трудно увидеть, как, в терминологии Феррье, я могу отпрячь от синтезирующей активности моего собственного интеллекта систему осмысленных отношений и запрячь её в какого-либо другого субъекта, вечного или какого угодно.
Можно возразить, что такая критика, хотя, возможно, и справедлива в случае Феррье, неуместна в случае Грина. Ибо Грин рассматривает индивидуальный конечный субъект как участника общей духовной жизни, духовной жизни человечества, которая постепенно синтезирует феномены в своём движении к идеальной цели тотального знания – знания, которое само было бы конституированным порядком Природы. Таким образом, речь не идёт об отпрягании синтеза от себя и запрягании его в какой-либо другой дух. Моя синтезирующая активность – всего лишь момент активности человеческой расы как целого или активности духовного принципа, живущего в множественности конечных субъектов и через неё.
В таком случае, однако, что происходит с вечным субъектом Грина? Если мы хотим представить, например, прогрессивное научное знание человечества как жизнь, в которой участвуют все учёные и которая направлена к идеальной цели, конечно, мы не можем говорить об «отпрягании» и «запрягании». Однако концепция такого рода сама по себе не требует введения какого-либо вечного субъекта, который воспроизводил бы своё тотальное знание по частям в конечном интеллекте.
Более того, как именно следует мыслить в философии Грина отношение Природы к вечному субъекту или интеллекту? Предположим, что конституирующая активность интеллекта состоит в связывании или синтезировании. Если можно адекватно утверждать, что Бог есть творец Природы, то, кажется, следует, что Природа редуцируема к системе отношений без терминов. И эта идея несколько смущает. Если же, напротив, вечный субъект вводит, так сказать, лишь определённые отношения между феноменами, то, кажется, мы имеем картину, сходную с той, что нарисована Платоном в «Тимее», в том смысле, что вечный субъект или интеллект творил бы не всю Природу из ничего, но скорее вносил бы порядок в беспорядок. В любом случае, хотя и возможно мыслить божественный интеллект, творящий мир, мысля его, термины типа «вечный субъект» и «вечное сознание» необходимо предполагают вечный коррелятивный объект. И это означало бы абсолютизацию отношения субъект-объект, подобную той, что мы видели у Феррье.
Возможно, эти возражения могут показаться придирками и свидетельством неспособности оценить общее видение Грина вечного сознания, в жизни которого мы все участвуем. Однако в любом случае возражения служат полезной цели, обращая внимание на тот факт, что часто острая критика Грина по отношению к другим философам сочетается с несколько туманными и путаными спекуляциями, которые во многом способствовали дискредитации метафизического идеализма[14311].
3. Политическая и этическая теория Грина
В своей моральной теории Грин верен традиции Платона и Аристотеля в том смысле, что для него понятие блага первично, а не понятие долга. В частности, его идея о том, что благо для человека есть полная реализация потенциала человеческой личности в гармоничном и унифицированном состоянии бытия, напоминает этику Аристотеля. Правда, Грин говорит о «самоудовлетворении» как цели человеческого поведения, но он ясно даёт понять, что самоудовлетворение означает для него самореализацию, а не удовольствие. Следует различать «стремление к самоудовлетворению, в котором можно сказать, состоит вся моральная деятельность, и стремление к удовольствию, которое не является морально доброй деятельностью»[14321]. Это не означает, что удовольствие исключается из того, что является благом для человека, но что гармоничная и интегрированная реализация потенциала человеческой личности не может быть отождествлена с поиском удовольствия. Ибо моральный агент есть духовный субъект, а не просто чувствующий организм. И в любом случае, удовольствие сопутствует реализации собственных способностей, а не является самой этой реализацией.
Разумеется, человек может реализовать себя только через действие, в том смысле, что он может актуализировать свои потенции и развивать свою личность в направлении идеального состояния гармоничной интеграции своих сил. И также очевидно, что всякое человеческое действие в собственном смысле слова мотивировано, совершается с оглядкой на непосредственную цель или предел. Но спорно, что мотивы человека детерминированы его существующим характером вместе с другими обстоятельствами, и что сам характер является результатом определённых эмпирических причин. В таком случае, не были ли бы действия человека детерминированы так, что то, чем он станет, зависело бы от того, что он есть, и, наоборот, то, что он есть, зависело бы от обстоятельств, не подвластных его свободному выбору? Правда, обстоятельства меняются, но то, как человек реагирует на различные обстоятельства, кажется, детерминировано. И если все человеческие действия детерминированы, остаётся ли место для этической теории, устанавливающей идеал человеческой личности как то, к чему мы должны стремиться через наши действия?
Грин не прочь уступить детерминистам значительную часть основания, на котором они строят свою позицию. Но в то же время он пытается вынуть жало из таких уступок. «Положения, распространённые среди “детерминистов”, согласно которым действие человека есть совместный результат его характера и обстоятельств, вполне истинны в определённом смысле, и в этом смысле они вполне совместимы с утверждением человеческой свободы»[14331]. Согласно Грину, для оправданного употребления слова «свобода» не является необходимым условием, чтобы человек был способен делать или становиться чем угодно. Чтобы оправдать определение действий человека как свободных, достаточно того, что это действия данного человека, в смысле того, что он является их истинным автором. И если поведение человека есть следствие его характера, то есть если такое поведение является ответом на ситуацию, побуждающую действовать определённым образом потому, что он есть определённый тип человека, то такая форма поведения является его собственной, подлинно его: он, а не другой, есть ответственный автор её.
Защищая эту интерпретацию свободы, Грин делает акцент на самосознании. В истории любого человека обнаруживается ряд эмпирических природных факторов того или иного рода – например, природные побуждения, – которые, согласно детерминисту, оказывают решающее влияние на человеческое поведение. Однако Грин утверждает, что такие факторы становятся морально релевантными, когда, так сказать, субъект принимает их в своё самосознание, то есть когда они рассматриваются в единстве самосознания и становятся мотивами. Таким образом, они становятся принципами поведения и, как таковые, являются принципами свободной деятельности.
Эта теория, в некоторых аспектах напоминающая теорию свободы Шеллинга, возможно, не кристально ясна. Но по крайней мере очевидно, что Грин хочет признать все эмпирические данные, на которые детерминист логически может сослаться[14341], и в то же время хочет утверждать, что такая уступка совместима с утверждением человеческой свободы. Возможно, можно сказать, что его вопрос таков: учитывая все эмпирические данные о человеческом поведении, имеют ли всё ещё какое-либо применение такие слова, как «свобода» и «свободный» в области морали? Ответ Грина утвердительный. Действия субъекта, сознающего себя, как таковые, могут быть уместно названы свободными действиями. Действия, являющиеся результатом физического принуждения, например, не проистекают от субъекта как сознающего. В самом деле, это не его действия; его нельзя считать их истинным автором. И необходимо уметь различать между действиями такого типа и теми, которые являются выражением самого человека, рассматриваемого не только как физического агента, но и как сознающего субъекта или, как сказали бы некоторые, как рационального агента.
То, что для Грина самореализация является целью человеческого поведения, может навести на мысль, что его этическая теория индивидуалистична. Но хотя он действительно настаивает на самореализации индивида, он согласен с Платоном и Аристотелем в рассмотрении человеческой личности как существа по сути социального характера.
Иными словами, «я», которое должно быть реализовано, не есть атомарное «я», чьи возможности могут быть полностью реализованы и гармонизированы без какой-либо отсылки к социальным отношениям. Напротив, только в обществе мы можем полностью реализовать наши возможности и жить подлинно как человеческие личности. Что, в действительности, означает, что частное моральное призвание каждого индивида должно интерпретироваться в рамках определённого социального контекста. Таким образом, Грин может использовать фразу, которую позднее Брэдли сделает знаменитой, указывая, что «каждый должен прежде всего исполнять обязанности своего положения»[14351].
Учитывая эту перспективу, понятно, что Грин, снова вместе с Платоном и Аристотелем, но также, конечно, с Гегелем, делает акцент на государстве и функции политического общества, государства, которое есть «для своих членов общество обществ»[14361]. Можно отметить, что эта несколько высокопарная фраза указывает на признание того факта, что существуют другие общества, такие как семья, предполагаемые государством. Но, конечно, сам Гегель признаёт этот факт. И ясно, что среди различных обществ Грин придаёт преобладающее значение государству.
Тем не менее, и именно по указанной причине, важно понимать, что Грин не отступает, явно или неявно, от своей этической теории самореализации. Он продолжает придерживаться мнения, что «наша конечная мера ценности есть идеал личностной ценности. Все прочие ценности зависят от ценности для, от или в личности»[14371]. Такой идеал, однако, может быть полностью реализован только в обществе личностей и через него. Следовательно, общество есть моральная необходимость. И это в равной степени применимо к самой широкой форме социальной организации, называемой политическим обществом или государством, как и к семье. Но никоим образом не следует из этого, что государство является самоцелью. Напротив, его миссия состоит в создании и поддержании условий для благой жизни, то есть условий, в которых человеческие существа могут наилучшим образом развиваться и жить как личности, признавая друг друга как цели, а не просто как средства. В этом смысле государство скорее инструмент, чем самоцель. Действительно, ошибочно говорить, что нация или политическое общество есть просто совокупность индивидов. Ибо слово «просто» показывает пренебрежение фактом, что моральные возможности индивида реализуются только в определённых конкретных социальных отношениях. Оно подразумевает, что индивиды могут обладать моральными и духовными качествами и исполнять моральное призвание, не будучи членами общества. В то же время, предпосылка, что нация или государство не есть «просто» совокупность индивидов, не подразумевает, что оно есть некая самосущная сущность, отдельная от составляющих её индивидов. «Жизнь нации не имеет реального существования, кроме как в жизни индивидов, составляющих нацию»[14381].
Таким образом, Грин не имеет никаких возражений против признания того, что в определённом смысле государство предполагает определённые естественные права. Ибо если мы думаем о типе полномочий, которые должны быть гарантированы индивиду с целью достижения его морального конца, мы находим, что индивид имеет определённые права, которые общество должно признать. Правда, права в полном смысле слова не существуют до того, как они социально признаны. В самом деле, термин «право» в своём полном смысле имеет мало смысла или вовсе его не имеет в отрыве от общества[14391]. В то же время, если утверждать, что существуют естественные права, предшествующие политическому обществу, означает, что человек просто в силу того, что он человек, требует определённых вещей, которые государство должно признать как права, тогда это вполне верно, что «государство предполагает права, которые суть права индивидов. Государство есть форма, которую принимает общество ради их поддержания»[14401].
Достаточно очевидно из сказанного, что, по мнению Грина, мы не можем прийти к философскому пониманию функции государства через простое историческое исследование форм, в которых фактически возникали реальные политические общества. Необходимо рассматривать природу человека и его моральное призвание. Подобным образом, чтобы иметь критерий для суждения о законах, мы должны понимать моральный конец человека, с которым связаны все права. «Закон хорош не потому, что он обеспечивает соблюдение определённых “естественных прав”, а потому, что он способствует достижению определённого конца. Мы обнаруживаем естественные права, лишь рассматривая, какие полномочия должны быть гарантированы человеку с целью осуществления этого конца. Совершенный закон будет гарантировать их в полной мере»[14411].
Из этой тесной связи политического общества и осуществления морального конца человека следует, что «мораль и политическая подчинённость имеют общий источник, при условии, что “политическая подчинённость” отличается от подчинённости раба, поскольку это подчинённость, гарантирующая ряд прав подданному. Этот общий источник есть рациональное признание определёнными человеческими существами – которые могут быть просто детьми одного отца – общего благосостояния, которое есть их собственное, и которое они осознают как своё, независимо от того, склонен ли в какой-либо момент кто-либо из них к нему или нет…»[14421]. Очевидно, что любой индивид может быть не склонен стремиться к тому, что способствует этому благосостоянию или общему благу. Таким образом, необходимы моральные правила или предписания и, в политической сфере, законы. По мнению Грина, следовательно, моральный и политический долг тесно связаны. Реальная основа обязанности подчиняться государственному закону – не страх и не простая целесообразность, но моральная обязанность человека избегать тех действий, которые несовместимы с осуществлением его морального конца, и совершать те, которые требуются для осуществления этого конца.
Это подразумевает, что не может быть права на неподчинение или восстание против государства как такового. То есть, «поскольку действующие законы в любом месте или в любое время осуществляют идею государства, не может быть права их нарушать»[14431]. Но, как признавал Гегель, отнюдь не всегда реальное государство отражает идею или идеал государства; и данный закон может быть несовместим с интересом или реальным благом общества как целого. Таким образом, гражданское неповиновение во имя блага или общего благосостояния может быть оправдано. Очевидно, люди должны принимать во внимание тот факт, что именно во имя публичного интереса законы должны соблюдаться. И защита этого публичного интереса часто будет больше способствовать тенденции к отмене спорного закона, чем к его абсолютному нарушению. Кроме того, человек должен думать, не может ли из неповиновения спорному закону произойти худшее зло, такое как анархия. Но моральное основание политического долга не подразумевает, что гражданское неповиновение никогда не может быть оправданно. Грин устанавливает довольно узкие границы для сферы гражданского неповиновения, говоря, что для его оправдания мы должны быть способны «указать на некий публичный интерес, общепризнанный как таковой»[14441]. Но из того, что он говорит далее, не кажется, что условие «общепризнанный как таковой» хочет полностью исключить возможность определённого права на гражданское неповиновение во имя идеала, большего, чем разделяемый сообществом в целом. Скорее, ссылка является призывом к общепризнанному публичному интересу против закона, принятого не в пользу общественного блага, а в частном интересе отдельной группы или класса.
Учитывая идею Грина о том, что государство существует для содействия общему благу, создавая и поддерживая условия, в которых все его граждане могут развивать свои возможности как личности, понятно, что он не соглашается с атаками на социальное законодательство за нарушение индивидуальной свободы, когда свобода означает возможность делать всё, что угодно, не принимая во внимание других. Некоторые, указывает Грин, говорят, что их права нарушаются, если им запрещают, например, строить дома без учёта санитарных требований или отправлять своих детей на работу, не получивших надлежащего образования. В действительности, однако, никакое право не нарушается. Ибо право человека зависит от социального признания с целью благосостояния общества как целого. И когда общество видит, как оно не видело раньше, что общее благо требует нового закона, например, закона, предписывающего начальное образование, оно перестаёт признавать как право то, что ранее формально считало таковым.
Без сомнения, в определённых обстоятельствах апелляция от менее адекватной к более адекватной концепции общего блага и его требований может принимать форму настаивания на большей мере индивидуальной свободы. Ибо человеческие существа не могут развиваться как личности, если у них нет простора для осуществления такой свободы. Но Грин фактически пытается противостоять догмам laissez-faire. Он не защищает ограничение индивидуальной свободы со стороны государства как таковое. Фактически, социальное законодательство, которое он одобряет, он понимает как устранение препятствий к свободе, то есть к свободе граждан развивать свои возможности как человеческих существ. Например, закон, устанавливающий минимальный возраст, с которого дети могут начать работать, устраняет препятствие к получению образования. Правда, закон ограничивает свободу родителей и потенциальных работодателей, мешая им делать то, что они хотят, без учёта общего блага. Но в этом смысле Грин не готов допускать никаких компромиссов общего блага со свободой. Частные, личные и классовые интересы, как бы они ни маскировались под апелляцию к индивидуальной свободе, не должны препятствовать созданию государством условий, дающих его гражданам возможность развиваться как человеческие существа и жить подлинно человеческими жизнями.
Таким образом, у Грина мы имеем явный пример пересмотра либерализма в соответствии с ощущением необходимости развития социального законодательства. Можно сказать, что он пытается интерпретировать действующий идеал движения, развивавшегося в последние десятилетия XIX века. Можно критиковать формулировку его теории; но, несомненно, это была теория, предпочтительная не только по сравнению с догматизмом laissez-faire, но и по сравнению с попытками сохранить этот догматизм как принцип, делая при этом ряд несовместимых с ним уступок.
В заключение следует отметить, что Грин не упускает из виду факт, что осуществление морального призвания через выполнение обязанностей, присущих нашему «положению» в обществе, может показаться идеалом несколько упрощённым и неадекватным. Ибо «могут быть основания утверждать, что определённые возможности человеческого духа не реализуемы в определённых лицах в условиях какого бы то ни было известного нам общества или общества, которое мы можем позитивно мыслить или которое может существовать на земле»[14451]. Таким образом, если только мы не считаем неразрешимой проблему, поставленную нереализуемыми возможностями, мы можем верить, что личностная жизнь, проживаемая на земле в условиях, препятствующих её полному развитию, продолжается в обществе, в котором человек может достичь своей полной совершенности, «Или мы можем удовлетвориться, говоря, что сознающее и личностное существо, приходящее от Бога, продолжается вечно в Боге»[14461]. Грин говорит так, чтобы слишком себя не обязывать. Но его личная позиция, кажется, гораздо ближе к Канту, который постулировал продолжение жизни после смерти как непрерывный процесс совершенствования, чем к Гегелю, который, кажется, не проявлял интереса к проблеме личного бессмертия, верил он в него или нет.
4. Э. Керд и единство, лежащее в основе различия между субъектом и объектом
Идея единства, лежащего в основе различия между субъектом и объектом, выходит на первый план в мысли Эдварда Керда (1835–1908), члена Мертон-колледжа в Оксфорде (1864–1866), профессора моральной философии в Университете Глазго (1866–1893) и мастера Баллиол-колледжа в Оксфорде (1893–1907). Его знаменитая работа «Критический обзор философии Канта» вышла в 1877 году; а в 1889 году появилось переработанное издание в двух томах под названием «Критическая философия Канта». В 1883 году Керд опубликовал небольшую работу о Гегеле[14471], которая до сих пор считается одной из лучших введений в изучение этого философа. Из других сочинений Керда можно упомянуть «Социальная философия и религия Конта» (1885), «Эссе о литературе и философии» (два тома, 1892), «Эволюция теологии у греческих философов» (два тома, 1904), «Эволюция религии» (два тома, 1893). Две последние работы – это опубликованные версии циклов «Гиффордских лекций».
Хотя Керд писал о Канте и Гегеле и использовал метафизический идеализм как инструмент интерпретации человеческого опыта и как оружие для борьбы с материализмом и агностицизмом, он не был и не претендовал на то, чтобы быть последователем Гегеля или какого-либо другого немецкого философа. В действительности он считал, что любая попытка импортировать философскую систему в чужую страну неуместна[14481]. Бесполезно предполагать, что то, что удовлетворило прошлое поколение в Германии, удовлетворит последующее поколение в Великобритании. Ибо интеллектуалу необходимо меняться вместе с обстоятельствами.
В современном мире, говорит Керд, мы видели, как рефлексирующий интеллект подвергает сомнению спонтанные убеждения человека и разделяет факторы, ранее соединённые. Например, у нас есть расхождение между картезианской отправной точкой, сознающим себя эго, и точкой эмпиристов, объектом как данным в опыте. И расстояние между обеими традициями возросло настолько, что нам говорят, что мы должны свести физическое к психическому или психическое к физическому. Иными словами, нас приглашают выбирать между идеализмом и материализмом, как если бы антагонистические требования обоих не могли быть примирены. Кроме того, существует углублённая пропасть между религиозным сознанием и верой, с одной стороны, и научной перспективой – с другой; пропасть, которая заставляет нас выбирать между религией и наукой, поскольку обе не могут быть примирены.
Когда такие оппозиции и конфликты возникают в культурной жизни человека, невозможно просто вернуться к унифицированному, но наивному сознанию более ранней эпохи. Также недостаточно апеллировать, как Шотландская школа, к принципам здравого смысла. Ибо именно эти принципы были поставлены под вопрос, например, юмовским скептицизмом. Таким образом, рефлексирующий интеллект вынужден обратиться к синтезу, в котором противоположные точки зрения могут быть примирены на уровне, более высоком, чем уровень наивного сознания.
Кант много способствовал выполнению этой миссии. Однако важность его вклада не была понята, по мнению Керда, главным образом по вине самого Канта. Ибо вместо того, чтобы интерпретировать различие между видимостью и реальностью, просто относя его к различным состояниям прогресса познания, немецкий философ представил его как различие между феноменами и непознаваемыми вещами в себе. И именно это понятие вещи в себе должно быть отвергнуто философией, как, в самом деле, и сделали последователи Канта. Когда мы освободились от этого понятия, мы можем увидеть, что действительная важность критической философии заключается в её прозрении того факта, что объективность существует только для сознающего субъекта. Иными словами, действительный вклад Канта состоял в том, чтобы показать, что фундаментальное отношение есть отношение между субъектом и объектом, которые вместе образуют «единство в различии». Как только человек постигает эту истину, он освобождается от искушения редуцировать субъект к объекту или объект к субъекту. Ибо такое искушение имеет своё происхождение в неудовлетворительном дуализме, который преодолевается теорией изначального синтеза. Различие между субъектом и объектом возникает из единства сознания, единства, которое является фундаментальным.
По мнению Керда, сама наука является свидетельством, своим образом, этого «единства в различии». Правда, она концентрируется на объекте. Но в то же время она стремится к открытию универсальных законов и к корреляции этих законов; и таким образом предполагает существование интеллигибельной системы, которая не может быть просто гетерогенной или чуждой мысли, её постигающей. Иными словами, наука свидетельствует о коррелятивности мысли и её объекта.
Хотя одна из миссий, которые Керд отводит философу, состоит в том, чтобы показать, что наука указывает на базовый принцип синтеза субъекта и объекта как «единства в различии», однако сам он концентрируется прежде всего на религиозном сознании. И в этой области он чувствует себя вынужденным выйти за пределы субъекта и объекта к фундаментальному единству и основе. Субъект и объект различны. В самом деле, вся наша жизнь движется между этими двумя терминами, которые существенно различны и даже противоположны друг другу[14491]. Но в то же время они связаны между собой таким образом, что один не может быть мыслим без другого[14501]. И «мы чувствуем себя вынужденными искать секрет их бытия в высшем принципе, чьим единством они в своём действии и противодействии являются выражениями, который они предполагают как свой принцип и к которому стремятся как к своему концу»[14511].
Эта всеобъемлющая единственность, описываемая платоническими фразами как «одновременно принцип бытия всех вещей, которые суть, и принцип знания всех существ, которые знают»[14521], есть гипотеза всякого сознания. И это то, что мы называем Богом. Это не означает, настаивает Керд, что все люди обладают эксплицитным знанием Бога как конечного единства бытия и познания, объективности и субъективности. Эксплицитное знание в этом случае – продукт долгого процесса развития. И в истории религии мы можем видеть главные этапы этого развития[14531].
Первый этап, этап «объективной религии», доминируется знанием объекта, не собственно объекта в абстрактном и техническом смысле слова, но в форме внешних вещей, которыми человек чувствует себя окружённым. На этом этапе человек не может сформировать идею чего-либо, «чего он не может ощупать как существующее в пространстве и времени»[14541]. Можно думать, что у него есть смутное знание единства, которое включает его самого и прочие вещи; но он не может сформировать идею божественного иначе, чем объективируя его в богах.
Второй этап в развитии религии – этап «субъективной религии». На нём человек возвращается от поглощённости Природой к самосознанию. И он мыслит Бога как духовное существо, отдельное от Природы и человека, которое открывает себя прежде всего во внутреннем голосе совести.
На третьем этапе, этапе «абсолютной религии», сознающий себя субъект и его объект, Природа, предстают как различные, хотя существенно связанные и в то же время укоренённые в конечном единстве. И Бог мыслится «как Существо, которое одновременно есть принцип, поддерживающая сила и конец наших духовных жизней»[14551]. Что, однако, не означает, что идея Бога совершенно неопределенна, так что мы чувствуем себя вынужденными принять агностицизм Герберта Спенсера. Ибо Бог открывает себя как через субъект, так и через объект, и чем лучше мы понимаем духовную жизнь человечества, с одной стороны, и мир Природы – с другой, тем больше мы знаем о Боге, «конечном единстве нашей жизни и жизни мира»[14561].
В той мере, в какой Керд выходит за пределы различия между субъектом и объектом к конечной реальности, можно сказать, что он не абсолютизирует отношение субъект-объект, как это делал Феррье. В то же время его эпистемологический подход, то есть через отношение субъект-объект, кажется, ставит проблему. Ибо Керд прямо признаёт, что «строго говоря, есть только один объект и один субъект для каждого из нас»[14571]. То есть для меня отношение субъект-объект есть, в строгом смысле, отношение между моим «я» как субъектом и моим миром как объектом. И объект должен включать других людей. Таким образом, даже если допустить, что с самого начала у меня есть смутное знание фундаментального единства, кажется, следует, что такое единство есть единство моего «я» как субъекта и моего объекта, где другие являются частью «моего объекта». И тогда трудно увидеть, как можно доказать существование других субъектов и тот факт, что существует одно и только одно общее фундаментальное единство. Здравый смысл, возможно, склоняет к мысли, что такие выводы верны. Но речь идёт не о вопросе здравого смысла, а скорее о том, как можно обосновать выводы, раз уж принят подход Керда. Взятая сама по себе, идея фундаментального единства может иметь определённую ценность[14581]. Но выводы, к которым хочет прийти Керд, не даются легко его отправной точкой. И, конечно, спорно, был ли Гегель мудр, исходя из понятия Бытия, вместо того чтобы исходить из отношения субъект-объект.
5. Дж. Керд и философия религии
Про Джона Керда (1820–1898), брата Эдварда, говорили, что он проповедовал гегельянство с кафедры. Богослов и проповедник-пресвитерианин, в 1862 году он был назначен профессором теологии в Университете Глазго, а в 1873 году стал главой университета. В 1880 году он опубликовал «Введение в философию религии», а в 1888 году – том о Спинозе в серии Blackwood's Philosophical Classics. Посмертно появились некоторые другие сочинения, в том числе его «Гиффордские лекции» «Основные идеи христианства» (1899).
В своих аргументах против материализма Джон Керд утверждает не только, что он не способен объяснить жизнь организма и сознания[14591], но также и то, что материалисты, хотя и пытаются свести интеллект к функции материи, молча и неизбежно предполагают с самого начала, что интеллект есть нечто отличное от материи. В конечном счёте, именно сам интеллект должен осуществить редукцию. Аналогичным образом он говорит, что агностик, утверждающий, что Бог непознаваем, своим самым утверждением раскрывает тот факт, что у него есть имплицитное знание о Боге. «Даже утверждая, что человеческий интеллект неспособен к абсолютному знанию, скептик предполагает в своём собственном интеллекте идеал абсолютного знания, по сравнению с которым человеческое знание объявляется несовершенным. Само отрицание абсолютного интеллекта в нас не имеет смысла, кроме как через молчаливую апелляцию к присутствию такого абсолютного интеллекта. Таким образом, имплицитное знание Бога доказывается самим попыткам отрицать его»[14601].
Выраженная в этой конкретной цитате, теория Керда туманна. Но её можно прояснить следующим образом: Керд применяет к частному случаю знания тезис Гегеля о том, что мы не можем быть сознающими конечность, не будучи имплицитно сознающими бесконечность. Опыт учит нас, что наши интеллекты конечны и несовершенны. Но мы не могли бы знать этого иначе, как в свете имплицитной идеи тотального или абсолютного знания, знания, которое было бы, фактически, единством мышления и бытия. Эта имплицитная или виртуальная идея абсолютного знания конституируется в смутно мыслимую норму, рядом с которой наши ограничения становятся для нас яснее. Более того, эта идея является для интеллекта идеальной целью. Таким образом, она действует в нас так, как если бы она была реальностью, и, фактически, является абсолютным интеллектом, чьему свету мы причастны.
Без сомнения, для Керда существенно сохранять идею, выраженную в двух последних фразах. Ибо если бы он просто сказал, что мы стремимся к полному или абсолютному знанию, конституированному как идеальная цель, мы должны были бы прийти к выводу, что абсолютное знание ещё не существует, тогда как Керд хочет прийти к выводу, что, утверждая ограниченность нашего знания, мы имплицитно утверждаем живую реальность. Он должен, следовательно, сказать, что, утверждая ограниченность моего интеллекта, я имплицитно утверждаю существование абсолютного интеллекта, который действует во мне и в чьей жизни я участвую. Таким образом, он использует гегелевский принцип, что конечное может быть понято только как момент жизни бесконечного. Открыто для обсуждения, может ли такое применение гегелевских принципов действительно служить цели, которой Керд их применяет, а именно, поддерживать христианский теизм. Но в любом случае Керд убеждён, что они могут.
Джон Керд также пишет, подобно своему брату, что взаимосвязь субъекта и объекта раскрывает конечное единство, лежащее в основе различия. Что касается традиционных доказательств существования Бога, они подвержены обычным возражениям, если их принимать как аргументы, претендующие на строгую логичность. Напротив, если их понимать как феноменологические анализы путей, «посредством которых человеческий дух приходит к знанию Бога и достигает тем самым осуществления своей высшей природы, такие доказательства имеют большую ценность»[14611]. Возможно, не совсем ясно, в чём заключается эта большая ценность. Керд вряд ли может хотеть сказать, что логически недействительные аргументы имеют большую ценность, если они показывают пути, которыми человеческий интеллект фактически приходил к выводу, рассуждая ошибочно. Возможно, он хочет сказать, что традиционные аргументы имеют ценность как иллюстративные пути того, как человеческий интеллект может стать эксплицитно сознающим знание, которым он уже обладал в имплицитной и тёмной форме. Эта перспектива позволит ему одновременно сказать, что аргументы ставят вопрос, предполагая вывод с самого начала, и что на самом деле это неважно, поскольку они являются средствами сделать имплицитное эксплицитным[14621].
Вместе с Гегелем Джон Керд настаивает на необходимости прогресса от уровня обычного религиозного мышления к идее спекулятивной религии, в которой «противоречия» преодолены. Например, противоположные и одинаково односторонние позиции пантеизма и деизма преодолеваются истинно философской концепцией отношения между конечным и бесконечным, концепцией, характерной для правильно понятого христианства. Что касается специфически христианских доктрин, таких как Воплощение, то способ, которым Керд трактует их, более ортодоксален, чем у Гегеля. Тем не менее, он слишком убеждён в ценности гегелевской философии как союзника в борьбе против материализма и агностицизма, чтобы серьёзно рассматривать опасность того, что, как позднее скажет Мак-Таггарт, союзник в конечном счёте может превратиться в замаскированного врага, поскольку применение гегельянства к интерпретации христианства по самой природе гегелевской системы склонно подразумевать подчинение содержания христианской веры спекулятивной философии и, фактически, связь с определённой системой.
Фактически, однако, Джон Керд не принимает гегелевскую систему целиком и безоговорочно. Скорее, он принимает от неё общие направления мысли, в которых видит внутреннюю ценность и которые, как он верит, могут служить поддержанию религиозной перспективы перед лицом современных тенденций материализма и позитивизма. Таким образом, он представляет собой хороший пример религиозного интереса, характеризовавшего значительную часть идеалистического движения в Великобритании.
6. У. Уоллес и Д. Г. Ритчи
Среди тех, кто способствовал распространению гегельянства в Великобритании, особого упоминания заслуживает Уильям Уоллес (1844–1897), преемник Грина на посту профессора моральной философии Уайта в Оксфорде. В 1874 году он опубликовал перевод с пролегоменами или вводным материалом «Логики» Гегеля из «Энциклопедии философских наук»[14631]. Позже он опубликовал исправленное и расширенное издание в двух томах: перевод появился в 1892 году, а «Пролегомены»[14641], щедро дополненные, в 1894 году. Уоллес также опубликовал в 1894 году перевод с пятью вводными главами «Философии духа» Гегеля, также входящей в «Энциклопедию». Кроме того, он написал том о Канте (1882) для серии Blackwood's Philosophical Classics и «Жизнь Шопенгауэра» (1890). Его «Лекции и эссе о естественной теологии и этике», вышедшие посмертно в 1898 году, ясно показывают сродство его мысли со спекулятивной интерпретацией религии вообще и христианства в частности, проводимой Джоном Кердом.
Хотя мы не можем умножать ссылки на других философов в русле идеалистического движения, есть особый повод упомянуть Дэвида Джорджа Ритчи (1853–1903), которого Грин в Оксфорде обратил в идеализм и который в 1894 году стал профессором логики и метафизики в Университете Сент-Эндрюса. Ибо в то время как идеалисты в целом не соглашались с философскими системами, основанными на дарвинизме, Ритчи поставил своей целью показать, что гегелевская философия может прекрасно ассимилировать дарвиновскую теорию эволюции[14651]. В конечном счёте, говорил он, разве дарвиновская теория выживания наиболее приспособленного не идеально гармонирует с гегелевской доктриной, что реальное разумно, а разумное реально, и что разумное, поскольку оно представляет ценность, торжествует над неразумным? И разве исчезновение наиболее слабого и менее приспособленного к выживанию не соответствует преодолению негативного фактора в гегелевской диалектике?
Правда, признаёт Ритчи, дарвинисты были так озабочены происхождением видов, что не понимали значения эволюционного движения в целом. Необходимо признать тот факт, что в человеческом обществе борьба за существование принимает формы, которые не могут быть адекватно определены биологическими категориями, и что социальный прогресс зависит от сотрудничества. Но именно здесь гегельянство может внести свет, которого не обеспечивают ни биологическая теория эволюции сама по себе, ни эмпиристские и позитивистские философские системы, которые заявляют, что основаны на такой теории.
Тем не менее, хотя Ритчи предпринял ценный попытку примирить дарвинизм и гегельянство, разработка «идеалистических» философий эволюции, «идеалистических» в том смысле, что они стремились показать, что общее эволюционное движение направлено к идеальному термину или концу, должна была осуществляться вне, а не внутри течения неогегельянской мысли.