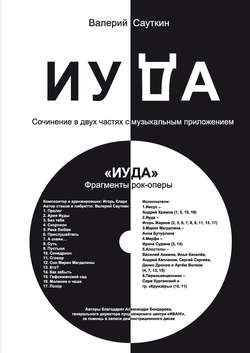Читать книгу Иуда - Валерий Сауткин - Страница 2
Часть I
«Версия – предатель»
Глава 2
ОглавлениеНиколай проснулся в начале одиннадцатого. На работу он уже опоздал. На протяжении последнего месяца ему лишь дважды удавалось приезжать вовремя. Опоздания составляли от десяти минут до часа. Один раз его даже поймали, перелезающим через забор. Начальник отдела кадров строго предупредил Николая:
– Ещё раз повторится, получишь выговор с предупреждением! А пока снимем 50 % премии!
Когда Николай выходил из кабинета, начальник буркнул:
– И скажи спасибо своему шефу! Он всегда за тебя заступается. Была бы моя воля, я бы… давно уже уволил бы тебя!
– Странные они люди, эти кадровики, – подумал Николай, – для них важнее режима нет ничего! Приходи и уходи вовремя, и ты – передовик! А делаешь ты свою работу или не делаешь, – это не важно!
Николай работал в этом институте уже четвёртый год. До этого он три года тянул лямку в Институте высоких температур АН СССР, куда распределился после защиты диплома на тему, связанную с изучением свойств низкотемпературной плазмы инертных газов. Работая над дипломом, он проявил изобретательность, которая произвела сильное впечатление на заведующего лабораторией. Во время одного из экспериментов неожиданно лопнуло смотровое стекло в третьем окошке плазмотрона. Его герметизация была нарушена, и в поток аргона стал проникать воздух. Эксперимент был под угрозой срыва. Руководитель работы дал команду погасить плазмотрон. Николай, не долго думая, вскрыл аварийное окно, вынул лопнувшее стекло, а образовавшееся отверстие заткнул простым карандашом, грифель которого надёжно закрывал узкий (основной) канал. Эксперимент под дружный и одобрительный смех продолжился. Распределение на работу в эту лабораторию ему было обеспечено. Многие сокурсники завидовали Николаю. Институт занимался реализацией модной в те времена идеей прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Идея красивая: нагреваем газ до плазмообразного состояния, когда атомы распадаются на положительно заряженные ионы и отрицательно заряженные электроны, подаём плазму в магнитное поле, в котором заряды разделяются на разнонаправленные потоки, снимаем их на электродах и замыкаем эту цепь на потребителя электрического тока. Комплекс работ по созданию магнитогидродинамического (МГД) генератора возглавлял Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, академик Кириллин. Пользуясь своим положением в правительстве и под флагом суперпривлекательности физической идеи, он создал новый институт с финансированием, соизмеримым разве что с финансированием космических программ. Правда, довольно быстро даже рядовому физику стала понятна несбыточность реализации этой идеи, по крайней мере, в обозримом будущем. Связано это с тем, что не был ещё найден токопроводящий материал для изготовления токосъёмных электродов, который бы выдерживал температуру рабочей плазмы. А охлаждение электродов приводило к такому увеличению электрического сопротивления в приэлектродной зоне цепи, что коэффициент полезного действия всей установки в целом становился удручающе низок. Во всех странах финансирование разработок стационарных МГД-генераторов было довольно спешно свёрнуто, и только в СССР работы продолжались, деньги из бюджета текли рекой, сотнями исчислялись кандидатские диссертации, десятками – докторские, в Академии наук росло число членкоров и академиков из числа сотрудников института. Периодически в центральной прессе и научно-популярной литературе появлялись восторженные статьи о блистательных перспективах нашей энергетики на базе новых принципов прямого преобразования тепловой энергии в электрическую, и мыльный пузырь идеи «фикс» приобретал всё более и более неприличные размеры. Справедливости ради надо отметить, что далеко не все исследования попали в конечном итоге в мусорную корзину. Многие из них были использованы в прикладных целях в разных отраслях промышленности. Так или иначе, но работа в ИВТАНе считалась не только престижной, но и перспективной в отношении научной карьеры.
По наработанным методикам создавались экспериментальные установки, на которых, как пирожки, одна за другой выпекались кандидатские диссертации, похожие друг на друга, если уж не как близнецы, то – как родные братья. Николаю быстро наскучила рутинная работа, научное содержание которой было таким же сомнительным, как содержание мяса в котлетах институтской столовой. Режим в НИИ был строгим, и Николай старался не опаздывать на работу, но после бессонной ночи, проведённой за карточным столом или за написанием очередной песни, он поручал проведение эксперимента своему механику Серёге Пушкину а сам отсыпался где-нибудь в укромном уголке. Нельзя сказать, что это плохо отражалось на результатах работы. Нет, вовремя писались и сдавались отчёты, публиковались статейки и делались доклады.
Неприятности начались, как всегда, нежданно-негаданно. Приглашение в отдел кадров никогда не сулило ничего хорошего. А если с тобой хочет побеседовать сам начальник, жди грозы! В этот раз дело обстояло ещё тревожнее. Николай, вошедший в кабинет начальника, был расстрелян колкими взглядами трёх пар глаз, две из которых были абсолютно незнакомыми.
– Николай Петрович!?
Один из двух незнакомцев испытующе глянул на Николая, и в его мозгу молнией сверкнула догадка:
– КГБ!
– Расскажите нам, пожалуйста, как вы съездили на стажировку в Чехословакию? – продолжал первый незнакомец, назвавшийся Иваном Ивановичем, и все трое уставились на Николая.
– Как съездил? – хмыкнул Николай, – хорошо съездил!
– Что входило в программу стажировки?
– Как что? Ну, экскурсии всякие, посещения институтов…
– Вот перед нами отчёт руководителя этой поездки, доцента Филатова. Он пишет, что из двенадцати НИИ, которые вошли в программу стажировки, вы посетили только два. Почему? – строго спросил второй незнакомец, представившийся Юрием Серафимовичем, вскинув брови и ткнув пальцем в картонную папку, по всей видимости, с досье на Рябова Н. П.
– Вот иуда! – подумал Николай, и память на мгновение перенесла его в те времена.
Вспомнилась Фая, с которой он познакомился в Карловых Варах, а также Златка из Праги. До чего же красивые девчонки, особенно Златка! Она сама «сняла» Николая в баре «Ялта» на Вацлавской наместни. Каждый вечер он приходил туда часов в восемь вечера, выпивал стопку «Бехеровки» или виски с содовой, выкуривал пару сигарет и часов в девять отправлялся на какую-нибудь дискотеку. Вот и в тот день, в своём модном японском костюмчике, который достался ему, кстати, не без помощи родственников, имевших какое-то отношение к космонавтам, он появился в баре, где его уже ждал ставший знакомым бармен. Николай взгромоздился на высокий стул, небрежно достал пачку «Марльборо» и закурил.
– Как дела, Ник? – приветствовал его бармен на немецком языке.
Николая часто принимали за немца, и он, зная язык не хуже рядового чеха, даже не пытался никого разочаровывать, поскольку отношение к немцам в Чехословакии было весьма уважительное.
Бармен, очень начитанный парень, мог поддержать разговор на любую тему от светских сплетен и искусства до проблем современной физики.
– Тобой интересуется одна привлекательная дама! – выразительным взглядом он показал в сторону диванчика за спиной Николая, – не будешь возражать, если она составит тебе компанию?
Николай обернулся и встретился взглядом с красивой черноглазой…
– Так почему? – спокойный, но властный голос вернул Николая на землю.
– Вы знаете, – как бы подыскивая нужные слова, начал Николай, – двух посещений их НИИ мне стало достаточно, чтобы понять, что ничему полезному мы у них не сможем научиться.
– Как это? – в один голос удивились комитетчики.
– Ну, во-первых, все они учились у нас, и вся их наука, если не топчется на месте, то семенит в шлейфе нашей науки. Во-вторых, что можно получить за восемь часов коллективных пробежек по этажам института? Да, приборное оснащение у них на высоте, да, мастерские – на уровне! Нам бы такие! Да я за это время прочесал всю Прагу, посмотрел несколько выставок…
Продолжая перечислять из дозволенного всё, что удалось сделать, Николай мысленно, вторым планом, автоматически вернулся к приятным воспоминаниям. Ему часто приходилось думать и говорить о разных вещах одновременно. Это умение помогало ему при игре в карты, когда разговорами он отвлекал внимание соперника, обдумывая в это время план и способы игры. Но иногда оно и мешало, например, в общении с девушками или с друзьями, когда на ум приходила какая-нибудь интересная идея, уединиться не было возможности, а идея требовала безотлагательного к себе внимания. Тогда он начинал даже нервничать и позволять себе разного рода недипломатические высказывания.
– Вы знакомы с Мирославом Мареком? – прервал череду воспоминаний Николая первый комитетчик.
– Да, – после некоторого раздумья, не без удивления ответил Николай.
– Вы переписываетесь с ним?
– Да… правда, редко.
– А вы знаете, что его отец был одним из организаторов путча в 68-м?
Второй комитетчик произнёс это как приговор.
– Я знаю, что его отец – профессор философии, – произнёс Николай, – и читал его труды по теологии. Мне показались интересными его размышления на тему христианской морали.
– Вот как? – вскинул брови Юрий Серафимович.
– Может быть, вам показались интересными и труды Солженицына? – Иван Иванович коварно глянул на Николая с явным намерением подловить его.
– Солженицына? Да нет, я практически и не читал этого автора.
Николай пожал плечами. Он уже успокоился, и ему стал надоедать весь этот разговор. На втором плане его воспоминаний уже заканчивалась история его знакомства со Златкой.
Виски с содовой, пара сигарет, лёгкие шуточки и советские анекдоты на немецком языке… Через час приятной беседы Златка пригласила его в свой номер отеля на втором этаже. На лестнице она спросила:
– Какими марками платить будешь?
– У меня нет марок, – Николай остановился, – я из Союза, – признался он на русском языке.
– Я подозревала, – улыбнулась Златка и тоже перешла на русский, – номер отменяется, беру выходной, едем на дискотеку.
За этим разоблачением последовало сказочное облегчение и…
– Как это вы не читали Солженицына? Но в общежитии вы хранили его книги! – оба комитетчика напряглись, а лицо кадровика вытянулось в изумлении. – И, кстати, кто дал вам их? Не Гершуни ли?
Разговор с чиновниками начал приобретать неприятный характер. Николай понимал, что его методично припирают к стенке. Чтобы поддержать в себе равновесное психологическое состояние, он на минутку отвлёкся от реальных событий и мысленно перенёсся на пражскую дискотеку «Ювентус», где они веселились почти всю ночь, а под утро на такси Златка привезла его к себе домой…
После бурно проведённого остатка ночи Николай хорошо выспался, пропустив, естественно, очередное посещение какого-то института, встал с постели, подошёл к зеркалу, чтобы полюбоваться на свою помятую морду, и вдруг ощутил приятное тепло нежных рук Златки, обхвативших его шею: «Папа приглашает тебя попить с ним кофе. Пойдём?» Знакомство с родителями в аналогичных ситуациях обычно не сулит ничего утешительного, и встревоженный Николай уже подобрал мысленно отговорку, но Златка успела открыть дверь в соседнюю комнату и увлечь за собой Николая, крепко держа его за руку: «Вот, знакомьтесь, это Ник. Он – учёный, приехал из Советского Союза. Он хороший человек и мой друг». Папаша представился: «Иржи. Инженер, присаживайтесь, прошу…». Беседа за столом носила формальный характер, но кофе и свежие рогалики с сыром были бесподобны…
– Почему молчите? – Иван Иванович с некоторым удивлением глянул на Николая, который не только не выказывал никакого волнения, но даже улыбался, – читали Солженицына?
Николай понимал, что это уже – обвинение, и догадывался, что не самое главное. Хранение запрещённой литературы оправдать было невозможно, тем более, что книги эти принёс сам Володя Гершуни, славный малый, сын вошедшего в историю известного эсера, сам диссидент с большим стажем, отсидевший уже несколько лет в лагерях вместе с Солженицыным и с восторгом описывающий свои «университеты» под его руководством.
– Я пробовал читать, но это – мучение. Язык корявый, сюжет надуманный, да и неинтересный совсем. Правда, я до конца и не дочитал, бросил в самом начале. Неинтересно, одним словом!
После этих слов Николай мысленно плюнул себе в лицо и сделал рукой движение, как бы, вытираясь.
– Хорошо, – удовлетворённый ответом Николая, произнёс кадровик, – изложите нам в письменном виде своё отношение к сочинениям Солженицына.
– Но для этого мне надо прочитать их, – Николай развёл руками, – а мне не хотелось бы этого.
– Напишите, опираясь на прочитанное! Завтра принесёте в отдел кадров.
– Хорошо! – на миг Николаю показалось, что удавка, накинутая на него комитетчиками, начала ослабевать.
А на экране второго плана воспоминаний опять всплыли картинки бурно проведённой со Златкой ночи. Да, она была профи! Николай даже не предполагал, что в постели возможно такое! Его поразила «любовь по-французски», как выразилась Златка, пронизывающая всё тело сладчайшим током высокого напряжения. Николаю нестерпимо захотелось вернуться в те времена, но…
– Когда вы виделись с Гершуни последний раз? – Иван Иванович откинулся на спинку стула и недобро прищурил глаз.
– Да я уже и не помню, когда.
– Но ведь Солженицына-то он вам совсем недавно принёс, правда?
– Я не знаю, когда он приходил, меня не было в комнате. И я не уверен, что это он принёс мне эти книги, – Николай почувствовал себя в роли шахматиста, попавшего в цугцванг, когда любой ход, любое слово может привести к поражению.
– Но Виктор Мухин, который живёт в комнате рядом с комнатой ваших друзей, где вы иногда ночуете, сообщил, – Юрий Серафимович вытащил из дела листок бумаги и слегка потряс им, – что приходил мужчина, который назвался Володей Гершуни, и попросил передать вам эти книги! Именно, вам!
– Я не просил его об этом, – равнодушным тоном парировал Николай и подумал: «Какой же всё-таки иуда этот Мухин!»
– Кроме того, Мухин сообщает, что ещё летом вы пытались прорваться в комнату отдыха на закрытый вечер французских студентов. Зачем? Ищете знакомства среди иностранцев? – это уже Иван Иванович начал атаку с другого фланга…
– Да нет! Просто на вечере играла группа «Кардиналы». Хотелось послушать их, – Николай пожал плечами, а память воскресила события прошлого июля, когда целый этаж общаги на весь месяц был заселён французскими студентами, изучающими русский по обмену.
Как можно было упустить такой шанс познакомиться с интересными француженками? Не было среди них красавиц, но их улыбки, открытые взгляды, непосредственные манеры общения притягивали к себе, снимая все барьеры как при первом знакомстве, так и потом… Сутра они уходили на занятия, а вечером были в распоряжении Николая и его друзей, в том числе, кстати, и Мухина. Пели, танцевали, пили вино, играли в футбол на хоккейной площадке и покер (по маленькой). Николай снял Мари-Франс, невысокого росточка шуструю шатенку в длиннополом плаще с гитарой на плече. Одевалась она непривычно для советского глаза: джинсы, кеды, рваный свитерок и много золота (массивный браслет с висюльками типа Эйфелевой башни, массивные цепи и колье, серёжки в виде больших колец). И, конечно, пьянящий и будоражащий воображение парфюм! Ау Мари-Франс, как выяснилось потом, папаша был хозяином парфюмерной фабрики. К Николаю все друзья обращались запросто: «Отец!» И Мари-Франс стала звать его так же, а сама получила кликуху «Мать». В первое время она совсем не говорила по-русски, только: «Отец!» Другие французы были лучше подготовлены, и были среди них даже вполне сносно говорящие по-русски. Все усердно занимались, все, только не Мари-Франс! Со второго дня она перестала ходить на занятия и по утрам будила Николая:
– Отец! Вставай! Пойдём!
– Дай поспать! – бурчал Николай, но тем не менее продирал глаза и привставал с кровати, – куда пойдём-то?
– В кабак! – немного нараспев гнусавила Мари-Франс.
– Опять в кабак!? – делал недовольную физиономию Николай, – у меня нет денег на кабак!
– У меня есть! – отвечала она и усаживалась на стул, настраивала гитару и начинала петь.
Пела она замечательно, особенно грустную и красивую песню со словами, что-то типа «Но мо кито па!» Николай не понимал по-французски, но чувствовал, что поёт она для него. Потом они отправлялись в центр, гуляли по Красной площади, ходили в музеи, катались на речном трамвайчике. Но особенно нравилось им забегать к художникам, друзьям Николая. Мари-Франс приводили в восторг и «сюры» Оскара Рабина, и «фактуры» Владимира Янкилевского, и «еврейские примитивы» Михаила Гробмана, и изящные натюрморты Эдика Штейнберга. Буквально за бесценок она скупила у Зверева и Яковлева несколько акварелей, а у Юло Соостера – небольшой, но очень красивый абстрактный пейзаж. А вот рок-группы наши ей не понравились. Разве что Градский! Его голос произвёл на неё сильное впечатление. Месяц пролетел незаметно. Пришла пора сдавать зачёты. И выяснилось, что лучше всех с языком дела обстоят у Мари-Франс! Проводы французов были весьма эмоциональными. Слёзы, песни, смех, шампанское… А Мари-Франс рыдала и причитала: «Отец! Зимой будем жениться! Отец! Пиши! Будем жениться!» Когда поезд тронулся, она, стоя в тамбуре, затянула свою песню «Но мо кито па!».
Николай долго стоял на перроне, провожая взглядом уходящий поезд. Он понимал, что больше никогда не увидит её. В сентябре Мари-Франс прислала первое письмо. Почти без ошибок она писала, что родители не возражают и планируют женитьбу на весну. Николай читал это письмо с комом в горле. Не сразу ответил. Не знал, как объяснить ей, что он советский человек, работает в закрытом институте, и вообще… Через неделю так и написал, что женитьба невозможна, т. к. переехать во Францию он не может из-за работы, а она не сможет жить в СССР, т. к. никогда не привыкнет к советскому быту: «Мать! Ты же даже готовить не умеешь!» – писал он ей. Через три недели Николай получил ответ: «Отец! Я научусь готовить! Уже сейчас я умею жарить яичницу! Папа приготовил подарок, автомобиль, и уже договорился в посольстве!» Никому не рассказывал Николай обо всём этом, только двоюродному брату, полковнику из Генштаба, да и то – так, в виде шутки, по пьяному делу… Брат сразу протрезвел: «Что ты творишь! Ты погубишь всех нас! Мне и так генерала не дали из-за тебя! А знаешь, что братан твой, Лёха, из-за тебя замом министра энергетики Литвы не стал!?»
Беседа продолжалась до конца рабочего дня и закончилась для Николая «предупреждением без занесения» и его обещанием, во-первых, не иметь дела с иностранцами, несмотря на то, что у него не было формы допуска, и, во-вторых, написать о своём критическом отношении к «так называемым произведениям» Солженицына. А через неделю начались события, к которым Николай ну никак не был готов. После работы он вышел из института и направился к троллейбусной остановке. Ещё на крыльце института он обратил внимание на странную парочку, лысоватого мужичка в тёмных очках и совсем не гармонировавшую с ним женщину средних лет незапоминающегося вида. Оба они смотрели на Николая, а мужичок даже слегка улыбался.
На остановке они опять встретились взглядами. В троллейбусе Николай по привычке встал на заднюю площадку и уставился в окно. Его взгляд равнодушно скользил по идущим вслед машинам. На остановках все они объезжали троллейбус все, кроме одной, чёрной «Волги», в салоне которой Николай увидел всё ту же парочку. «Вот это номер! – подумал Николай, и ему стало немного жутковато, – кстати, номерок-то этой машины надо бы запомнить!» На конечной остановке Николай выскочил из троллейбуса и поспешил в метро. Перед посадкой в вагон он оглянулся. Ничего подозрительного не было, и толпа пассажиров внесла его в вагон. Он нашёл свободное местечко в середине вагона, сел и… обомлел: напротив него сидел и читал газетку всё тот же лысоватый мужичок в тёмных очках, а его спутница стояла у двери. Не трудно догадаться, что Николая «вели» до самого дома. На следующий день он «по секрету» рассказал об этом своему приятелю по работе, Володьке Забровскому Тот сначала не поверил: «Да ладно, тебе показалось, наверное…» Потом согласился прокатиться с Николаем в кафе-мороженое, благо – была пятница. Уже на крыльце института их встретила всё та же парочка, а за троллейбусом следовала чёрная «Волга» с известным уже номером. Три остановки метро до «Проспекта Маркса» они проехали под неусыпным вниманием лысоватого мужичка и его партнёрши. Вышли на чётную сторону улицы Горького и медленно направились в сторону кафе «Московское». Оглянулись: о, Боже, знакомая парочка под ручку степенно вышагивала за ними, а по проезжей части медленно тащилась знакомая «Волга» с двумя пассажирами. В таком составе вся процессия добрела до Пушкинской площади. Пару раз Николай с приятелем останавливались. Останавливались и сопровождающие их, а попытки сблизиться с ними были безуспешными: все дружно разворачивались и не допускали сближения. На Пушкинской перешли на нечётную сторону улицы и быстро направились в кафе «Север». От «Волги» удалось оторваться. Поднялись на бельэтаж кафе и сели за столик с видом на первый этаж и входную дверь.
– О! Вот и они, голубчики! – Николай кивнул в сторону входа, – интересно, кто-нибудь из этой команды подсядет к нам?
Его интерес был удовлетворён очень оперативно. Четверо вошедших, включая мужичка с дамочкой, заняли столик на первом этаже, а пятый, моложавый мужчина лет тридцати пяти в костюмчике при галстуке поднялся на второй этаж.
– К вам можно? – спросил он у Николая.
– Пожалуйста, – в один голос ответили ему друзья.
Николай с Володькой затеяли заумный разговор о связи науки и искусства. Николай представлял любое произведение, как информационный поток, который можно оценить даже количественно: обратно пропорционально логарифму вероятности информационного сообщения. Володька уточнил понятие информации в искусстве как настраивающего сигнала и согласился с утверждением Николая, что сила воздействия произведения искусства на зрителя или слушателя пропорциональна степени неожиданности информационного сообщения. Николай заметил, что результат воздействия зависит также от способностей потребителя и его подготовленности к восприятию. Так, например, если поток информации будет существенно меньше того, который способен освоить мозг зрителя, последний может заскучать и потерять интерес к нему, а если – больше, мозг зрителя откажется переваривать информацию, и зритель тоже заскучает. Пример тому – спящий зритель на концерте симфонической музыки: это или завсегдатай, который слушает эту музыку далеко не первый раз, или дилетант, слушающий серьёзную музыку впервые.
Прекрасно понимая друг друга с полуслова, друзья, тем не менее, позволяли себе нарочито избыточное изложение своих аргументов в виде формул и схем на салфетках, стараясь обескуражить своего соседа, «подсадную утку», который слушал этот далеко не всегда понятный разговор и сидел с широко открытыми глазами.
– Вы очень интересные ребята, – попытался он встрять в разговор, но Николай, как бы не замечая этого, предложил применить уравнение Шредингера для рассмотрения проблемы гармонизации произведения искусства.
Володька оценил эту шутку, едва сдерживая смех, и заострил внимание на краевых условиях этого уравнения, переходя тем самым на реальную почву дискуссии: очень важно сначала правильно настроить зрителя! Например, «в некотором царстве, некотором государстве…» настраивает читателя к восприятию любых, самых фантастических событий, и его не шокирует, что Елена Прекрасная выходит во чисто поле, бросает через плечо гребешок, и за её спиной вырастает лес до небес. Интересно, как отреагировал бы читатель, если бы Лев Толстой отправил Наташу Ростову в середине романа «Война и мир» во чисто поле с целью вырастить перед носом французов лес до небес при помощи гребешка, брошенного через плечо? Это была бы явная перегрузка информационного потока!
– Ребята, вот вы говорите о войне и мире, – нашёл повод присоединиться к разговору «засланный казачок», – а как вы относитесь к событиям в Афганистане?
– Да мы, собственно, к ним не относимся, – Николай испытующе посмотрел на него и добавил, – никак не относимся.
– Как это, никак? Вы же советские люди!
– Да! И, как все советские люди, мы честно делаем своё дело! – не без пафоса произнёс Володька.
– Какое дело?
– Наше дело – наука! – торжественно продолжил Володька.
– Впрочем, нам, наверное, уже пора. Как ты? – спросил Николай и подмигнул приятелю, – официант, рассчитайте нас пожалуйста.
Подошёл официант, принёс счёт.
– И меня тоже рассчитайте, пожалуйста, – попросил «казачок», спешно доедая своё мороженое, и отсчитал один рубль двадцать копеек.
– Слушай, а может быть, мы ещё по мороженке закажем? – «разошёлся» Володька, – официант, пожалуйста, принесите нам ещё два «Солнышка».
– И мне тоже. С вами так интересно! – «казачок» проверил мелочь в кармане, денег явно не хватало на мороженое, – впрочем, нет, принесите лучше кофе.
Официант принёс мороженое.
– А кофе придётся немного подождать!
– Хорошо, подожду!
Друзья переглянулись и интенсивно заработали ложечками. Мороженое быстро кончилось. Николай отсчитал нужную сумму и положил на стол.
– Отдадите официанту? Мы не будем ждать. Здесь – с чаевыми. – Николай глянул на Володьку – пойдём?
Лицо «казачка» удивлённо вытянулось, типа: «А как же я?» Друзья быстро встали из-за стола и стали спускаться на первый этаж. Заметив это, основная группа во главе с мужичком в тёмных очках поспешила к выходу.
– Ну, что? Убедился?! – скорей укоризненно, нежели вопросительно, обратился Николай к приятелю, – ладно, в понедельник увидимся, если меня не заметут. Я погнал… в Пушкино, к тётке. Покеда!
– Пока!
Николай быстро направился на Пушкинскую площадь, Володька – в другую сторону. Остальные засеменили за Николаем.
В электричке его сопровождала всё та же парочка во главе с мужичком в тёмных очках, но это уже не волновало Николая, и он с головой предался своему любимому занятию, сочинению очередного текста песни для группы «Кардиналы». С ребятами из этой группы он познакомился на том самом, памятном вечере для французов и с клавишником уже написал одну песню, которая даже стала популярной у молодёжи, не признававшей официальную эстраду.
Через неделю открытая слежка, «японская», как назвал её Володька Забровский, была снята. Николай успел привыкнуть к ней и даже чувствовал себя с ней спокойно, в какой-то степени защищенным, хотя и понимал, что из-под пресса ему уйти едва ли удастся, и все неприятности ещё впереди. Время от времени он пытался анализировать всё происходящее с ним, чтобы понять, чем же всё-таки он «насолил» своей родной стране и как он подрывает её безопасность? Внятного ответа не находил, но всё чаще думалось, что КГБ надо как-то оправдывать своё существование. Впрочем, кое-что могло действительно заинтересовать чекистов. Дело в том, что в своё время Володя Гершуни познакомил Николая с Борисом Ефимовым. Это был интересный молодой человек, очень образованный, особенно, в области юриспруденции, хотя и работал певчим в церковном хоре. У них оказалось много общих знакомых, особенно среди левых художников и музыкантов. Жил Борис на бульварном кольце, в большой квартире дореволюционного дома, и часто у него собирались так называемые диссиденты. Только со временем Николай понял смысл этого термина. При их появлении не сразу и не всегда Борис прощался с Николаем, так что неоднократно Николай был свидетелем их разговоров. Поражали смелые и очень умные речи человека, которого Борис назвал Буковским. Постепенно Николай проникся идеями, которые обсуждались диссидентами, многих из которых он видел, но с которыми так и не познакомился. А когда Борис зачитал свой (в соавторстве с Виктором Кузнецовым) проект новой конституции СССР, Николай ощутил острое чувство сопричастности к исторически значимым событиям, и автору не удалось отговорить его подписываться в поддержку этого проекта. Всё-таки Борис предупредил, что это очень опасно, и строго посоветовал не подписывать больше никакие письма, так как этим, по мнению Бориса, должны заниматься профессиональные диссиденты, правозащитники. В дальнейшем Николай строго следовал этому совету. Во второй половине семидесятых началась волна еврейской эмиграции, и Борис Ефимов уехал из страны, чтобы избежать преследований со стороны органов безопасности. Он написал Николаю два письма из Израиля. Потом переписка прекратилась. Каким-то образом до Николая дошли слухи, что Борис перебрался в ФРГ и работает на одной из «вражеских» радиостанций.
Через неделю после беседы Николая с комитетчиками состоялось внеплановое общее собрание отдела. Обсуждались предварительные итоги выполнения соцобязательств. Выяснилось, что группа Николая Рябова единственная в отделе безнадёжно выбилась из графика работ, и, как следствие, отдел в целом не сможет вовремя рапортовать о выполнении своих социалистических обязательств. Активисты отдела припомнили Николаю и его опоздания на работу (забыв, правда, о том, что очень часто Николай задерживался в отделе до полуночи и даже позднее), и его отказы под разными предлогами от работ по уборке картофеля и на овощной базе, и уклонение от участия в общественной жизни коллектива. Николаю объявили выговор, а начальник отдела пригласил его в свой кабинет и дружески посоветовал подать заявление об уходе по собственному желанию. Больше месяца Николай болтался без работы, что вызывало неосознанно тревожные чувства в связи с образовавшейся «дыркой» в непрерывном рабочем стаже. Попытки устроиться на работу по специальности к успеху не приводили. Подвернулась было возможность поступить в очную аспирантуру оптико-физического института на открытую тему «Исследование эффекта Джефферсона». Николай блестяще сдал все экзамены, но неожиданно выяснилось, что тема не финансируется и место в аспирантуре ликвидируется. Будучи безработным, он подвергался риску быть осуждённым за тунеядство, что грозило в лучшем случае высылкой из Москвы. Именно это беспокоило Николая больше всего. Зарплаты в институте ему хватало разве что на пять-шесть посещений ресторана, а основной доход составляли гонорары за несколько песен, которые стали известны благодаря популярности групп «Круиз» и «Араке», которые их исполняли. Кроме того, карточные игры время от времени существенно пополняли его бюджет.
Прошло несколько месяцев безбедного, но очень шаткого существования, а проблема трудоустройства оставалась нерешённой. Как всегда в таких ситуациях, всё решила госпожа Фортуна. Именно ей и посвятил Николай одну из самых удачных своих песен с припевом:
«Фортуна к каждому из нас
Стучится в дверь хотя бы раз,
Не заставая дома нас
Подчас».
Случилось так, что по воле случая в одном из теплофизических НИИ работал на высокой должности близкий друг старшего брата Николая, Захар Хазин, который, выполняя поручение брата, проживавшего в Литве, разыскал Николая, долго беседовал с ним, проникся сочувствием и предложил место инженера в своём институте. Николай подал заявление о приёме на работу. Через несколько дней его пригласили в отдел кадров института. Удивлению Николая не было предела, когда его встретили три чиновника, в том числе и старые знакомые, Юрий Серафимович и Иван Иванович. Приветливо улыбаясь, они пригласили Николая присесть:
– Добрый, добрый день, Николай Петрович! Очень приятно, что вы решили продолжить деятельность в качестве инженера, – начал Иван Иванович.
– Инженера-исследователя, – продолжил Юрий Серафимович, – и мы надеемся, что вы отдадите все свои силы и способности развитию теплофизической науки.
Оба комитетчика уставились на Николая, ожидая от него ответа.
– Да, конечно! – не найдя ничего более остроумного, ответил Николай.
– К нам поступило ваше заявление о приёме на работу, – неловко ёрзая на стуле, начал было третий, судя по всему, начальник отдела кадров.
– Да… – подтвердил Николай.
– Прежде чем передать ваше заявление на подпись директору, мне хотелось бы, чтобы вы побеседовали с глазу на глаз с нашими… – кадровик замялся немного и продолжил, – …товарищами, уже знакомыми вам.
Василий Васильевич, а именно так звали кадровика, встал, собрал свои бумаги в папку и суетливо вышел.
– Николай Петрович, – доверительным тоном произнёс Иван Иванович, – это не первая наша встреча, и, надеюсь, наши отношения стали развиваться в правильном направлении, как вы думаете?
Николай не знал, как надо реагировать на этот вопрос, и промямлил:
– Да, конечно!
– Ну, вот и хорошо! Если мы дадим вам хорошую рекомендацию, у вас не будет никаких проблем с зачислением в штат института, – продолжил Иван Иванович, – ведь мы же теперь, можно сказать, союзники.
– Мы вам помогаем, а вы нам поможете, – подхватил Юрий Серафимович.
– А чем же я вам могу помочь? – недоуменно развёл руками Николай.
– Ваша готовность помочь весьма похвальна. Вы поддерживаете отношения с Борисом Ефимовым? – Иван Иванович испытующе глянул в глаза Николаю.
Этот вопрос застал его врасплох: они и это знают…
– Ну, как Вам сказать… – замялся Николай.
– Как есть, так и сказать!
– Но он же уже эмигрировал…
– Вы переписываетесь с ним? – Юрий Серафимович, заметив некоторую растерянность Николая, улыбнулся, – не надо смущаться, ничего крамольного в этом нет, продолжайте переписываться с ним.
– А вот с его соавтором неплохо было бы наладить дружеские, так сказать, отношения, – добавил Иван Иванович.
– Это с кем это? – удивился Николай.
– С Виктором Кузнецовым. Вы разве с ним не знакомы?
– Нет!
– Так попросите Бориса Ефимова дать вам рекомендацию и познакомьтесь с Виктором. Надеемся, что вас не обременят ежемесячные встречи с ним, желательно, у него дома. Нас очень интересует его образ жизни и круг его знакомых, – Юрий Серафимович достал из папки листок бумаги, – и мы хотели бы получить от вас расписку о неразглашении наших переговоров.
– Да, для дальнейшего общения мы рекомендуем вам взять псевдоним, – Иван Иванович переглянулся с Юрием Серафимовичем, получив от него одобрительный кивок головой, – ну, например, Кириллов Александр. Не возражаете?
– Нет, – хотел возразить Николай, абсолютно не готовый к такому повороту событий.
– Ну, вот и славно, – не возражаете! – Юрий Серафимович придвинул к Николаю бумагу и ручку, – пишите!
Вернулся Василий Васильевич.
– Мы считаем, что в лице Николая Петровича Рябова ваш институт приобретёт ценного сотрудника, – обратился к нему Иван Иванович.
– Как просто стать иудой, – подумал Николай и подписал всё, что требовалось от него.
Через день он вышел на работу. Его тепло встретил начальник лаборатории, профессор, доктор технических наук, Семён Осипович Сирота. «СОС!» – мысленно сложил в аббревиатуру его инициалы Николай. Как потом выяснилось, именно так и звали его в институте.
– Зовите меня просто Семён, – представился он.
С ним у Николая сразу же установились очень хорошие отношения. Вместе ходили в институтскую столовую, и Сирота рассказывал Николаю, чем занимается лаборатория и какие задачи стоят перед ней. Всё это было интересно, но конкретной темы для него не было, и Николай выполнял разовые задания от разных сотрудников. Прошло недели три, и Николай начал забывать о тех условиях, на которых его приняли на работу. Однако, один из его кураторов, Иван Иванович, позвонил как-то, ровно в конце рабочего дня:
– Добрый день, Николай Петрович! Вы познакомились с Виктором Кузнецовым? Нет ещё? Не тяните с этим…
Адрес Виктора Николай знал. Иван Иванович подробно рассказал, как и когда лучше всего навестить его, и Николай решил не дожидаться рекомендаций от Бориса, а поехать к Виктору и рассказать ему всё, как на духу!
Семья Кузнецова, жена и две дочери, проживала в малогабаритной квартире «хрущёвской» пятиэтажки города Пушкино. Более чем скромная обстановка не стала неожиданностью для Николая. Он уже знал, что Виктор работает художником-оформителем в клубе, а жена – медсестрой. На их зарплаты не пошикуешь! Вся семья сидела за столом. Обедали. Николай представился другом Бориса Ефимова. Виктор радушно пригласил его к столу, хозяйка поставила перед Николаем миску с молочным супом и извинилась:
– Простите нас, мы не ждали гостей. Чем богаты… Разделите с нами нашу трапезу. Больше ничего в доме нет.
Во время обеда обсудили последнюю выставку в Пушкинском музее, поделились впечатлениями от переписки с Борисом. После обеда жена Виктора ушла с детьми на прогулку, и Николай, собравшись с духом, заявил:
– Я – стукач и выполняю первое своё задание. Я должен докладывать о том, как вы живёте, чем дышите, с кем общаетесь… Мне очень стыдно, но меня вынудили подписаться на это…
Виктор стоял перед Николаем, ошарашенный его заявлением. Вокруг него увивалось немало соглядатаев, которые прикидывались друзьями, но все они тщательно маскировались, хотя, как показывает опыт, скрыть это едва ли возможно.
– Что им надо от меня? Чем я им насолил? – после некоторой паузы огорчённо выдавил из себя Виктор.
– Ты знаешь, эти вопросы и я задаю себе. Чёткого ответа не нахожу. Ясно, что никакой опасности для страны мы не представляем, но им, КГБ, надо как-то оправдывать своё безбедное существование. Это первое.
– Что им надо? Что надо?
– Кроме того, им не нужны честные люди, люди с чувством собственного достоинства и самоуважения, болезненно реагирующие на все мелкие и крупные проявления несправедливости со стороны государства. Это второе. Ну, вспомни хотя бы процессы над Синявским и Даниэлем. Им просто нужна рабочая сила, безмолвная и послушная…
Николай попытался подробно рассказать свою историю взаимоотношений с комитетчиками, но Виктор слушал его без особого интереса, время от времени покачивая головой, типа: «Достали!». Был он бледен, и, как Николаю показалось, весьма испуган.
– Не волнуйся, у меня есть предложение, – Николай встал и медленно зашагал по комнате, – давай вдвоём сочинять доносы на тебя. Будем писать так, как выгодно нам.
– Ты рискуешь. Если твои показания будут расходиться с показаниями других стукачей, тебя возьмут в разработку.
– Да я и так, наверняка, в разработке у них, – Николай сел за стол и продолжил, – вот сегодня: опишем, в какой нищете живёт твоя семья, никто к тебе не приходил и не звонил, «Самиздат» ты мне не предлагал, «Хроники» я у тебя не видел. Всё. В следующий раз придумаем что-нибудь подобное. Ну, как? Идёт?
Виктор помолчал некоторое время и, слегка хмыкнув, протянул руку Николаю:
– Идёт!