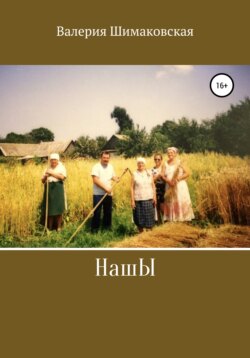Читать книгу НашЫ - Валерия Шимаковская - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Папа
ОглавлениеПапа папы, мама папы и рыба
1.
Папа папы папе писал: обнимаю крепко-крепко.
Папа папе его писал: целую крепко-крепко.
Папа папы папу на рыбалку водил и учил любить рыб.
Папа папы в одиннадцать лет лишился. И ему некому стало писать: целую крепко-крепко. И не от кого получать: обнимаю крепко-крепко. И осталось одно чувство – глубокое и подводное, и была то любовь к рыбам.
2.
У мамы папы мамы собственной не было. Как и папы. Она росла в белорусском детдоме.
В аттестате зрелости мамы папы стоит пятнадцать троек при общем числе предметов пятнадцать. Пожалуй, мама папы созрела к тому времени не до конца.
Потом мама папы строила ракету Гагарину. У всех бабушка строила Гагарину ракету. Моя работала на заводе, где делали гайки для этой ракеты. Благодаря бабушкиным гайкам он, собственно, и полетел.
Примерно тогда же мама папы встретила папу папы, и у него было самое мягкое, самое льняное имя на свете – Лёня.
В письмах в роддом папа папы маме папы писал: Покрывало, Оля, купить жёлтое, тусклое-тусклое, за рубль семьдесят пять, или розовое, яркое-яркое, за три? Добавлял: Если плохое-плохое у тебя настроение, ты мне не пиши, пережди. А то мне тоже становится плохо-плохо. Целую крепко-крепко. И ставил в конце колосящееся имя своё: Лёня.
У папы папы все выражения были двойные, одного слова не хватало, не вмещалось в него, что хотел он выразить. Добавлял к первому слову близнеца и, кажется, был доволен.
Сло́ва каждого было по два, а папа у папы папы и мамы папы один получился, и не было ему двойняшки и близнеца. И когда папы не стало у папы, то ему не с кем было разделить озеро с населявшими его рыбами.
3.
Зарыбачил папа несколько лет назад. Говорил, что проработал всю жизнь, и не видел, что мы уже взрослые, а мама плакала, смысла «лова промышленного» не понимая. Нас с сестрой как-то папа на озеро взял с собой, и мы там сети распутывали, и не то чтобы что-то прямо сильно поняли, но, что ли, поняли больше, когда он – про своего папу – папу папы, и маму свою – маму папы.
Мы всё говорили вдоль, в диагональ, чаще – друг друга мимо.
Раз на озере надо распутать сети. Клин,
лайки, лодка, обрывы,
а сети длинные, длинные.
– Обо всём, о чём не успели.
– То есть всё-таки обо всём?
– Именно.
– Начнём. Отчего в сетях тина?
– Как-то всё второпях, торопил,
не заметил, как вы выросли.
– Не беда. Се́ти количество необозримое
надо распутать. Медленно, не торопясь,
станем распутывать сеть.
Не такой
Мы все такие, а папа не такой. То есть он такой, но не такой, как мы. Более другой, что ли.
У нас каждый праздник – всех ставить в ряд, вручать подарки и плакать параллельно. А папа мне на день рождения подарок раз сделал – кактус – и не сказал, что от него, а на кухне поставил, и, так как проснулся к тому времени только он, были сделаны мной недостающие выводы.
Сидим мы, такие и не совсем, и вспоминается мне знакомство на улице с маленьким мальчиком, который, порешив поведать всё о своей семье, начал: у меня, слушай, две бабушки, три тётки, один папа. И бабушки с тётками, как я поняла, всё по маме, а папа в стороне, и вот оно получается с вариацией бабушек-тёток по маминой длинной линии и неизменной цифрой один перед отцом.
И вот папа не такой, а мы такие. Но я-то тоже, выходит, не такая уж и такая, и столько же во мне маминой таковости, сколь нетаковости папы.
Мои родители совместились двадцать три года назад. Мне всё ещё непонятно, почему совместились именно они. До этого папа жил на Севере, строил гидроэлектростанцию в течение восьми лет и двух браков. Моя мама была влюблена в юношу с улицы Кораблестроителей, но недосужий кораблестроитель обманул её, и ей ничего решил не говорить, и продолжил пить шампанское на берегу залива из её туфли. С того времени улицу Кораблестроителей в нашей семье обходят изнаночной стороной.
Мой папа бо́льшую часть времени молчит. Когда ездили в школу, посидим-посидим в тишине, спрошу, убедившись, что и сегодня разговора не намечается: радио? С мамой радио слушали только, когда до устали проговорим.
Так одновременно росли и крепли во мне две привычки и склонности: помолчать и к разговору. Вот и теперь, когда надобно бы сказать, думаю: а не помолчать ли, и торжественную тишину имею обыкновение репликой нарушать.
Папин час
Когда уезжала мама, наступал папин час. Его две недели. На нём лежала возлагаемая обыкновенно на маму ответственность, и ему же доставалась предназначаемая в другое время маме любовь.
Папа подошёл к вопросу со всей серьёзностью, какая есть в нём. Но её не то чтобы у папы полно. Присутствует, скажем, но без избытка.
Сперва-наперво – готовка блюд. На одну неделю – плов с чесноком, на вторую – с луком мясо. Плов состоял по итогу из одних почти чесноковых головок, а о луке и мясе можно сказать, что скорее мясо добавили в лук, нежели наоборот.
Была особенно холодная зима. И мама перед отъездом велела купить жилетки для школы. Обычно вещи мы выбирали с ней и по месяцу, во внимание принимая ткань, сложность стирки, цену и красоту. Папа холода не ощущал. Не раз случалось, что выходил на снег, забыв перед тем надеть обувь. Мы приобрели жилетки по пути домой в супермаркете в течение получаса, считая общее время нахождения в магазине.
Папе на руку был мамин отъезд. В нас по-прежнему за день копились невыговоренные эмоции, и если раньше всё переходило в мамины уши, то теперь слушал папа. Затоплял печь, мы держали над теплом руки, и делились, жаловались, радовались ему. Он сидел, полузакрыв глаза, наслаждаясь процессом и представляя, как будет хвастаться маме и как ему завидовать станет она.
Мясо и плов заканчивались – точнее сами мясо и плов заканчивались довольно скоро, а лук и чеснок тянулись и были долгоиграющими, жилетки приходили в негодное состояние и до приезда мамы оставались дни. Мы готовились, и чем радостнее становились, тем больше папа, доедая чеснок, сникал ввиду того, что снова лишится возможности видеть нас у печи и слушать что-то неважное, которое кажется самым важным.