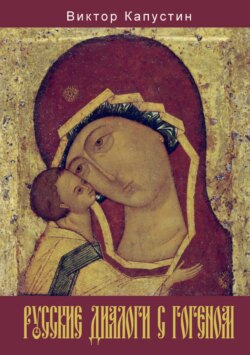Читать книгу Русские диалоги с Гогеном - Виктор Капустин - Страница 4
Москва пустынная
Оглавление«Одинок – значит, свободен».
Леонардо да Винчи
Журналист: Вилен Фёдорович, вы совсем, совсем неизвестный писатель, поэт, художник. Вас не знает никто, никто не печатает, не читает. Для кого вы всё это пишите? (Окидывает глазами полки книг, картины и рукописи.)
Художник: Для себя, писатель всегда пишет для себя, это прежде всего чтобы унять тот зуд, который зовётся творчеством.
Журналист: Значит, вы из тех счастливых людей, кто бы и на необитаемом острове писал? Для кого?
Художник: Не знаю, это трудный вопрос. Скорей всего, на необитаемом острове я не писал (там писать нечем: ни чернил, ни ручки, ни карандашей). На необитаемом острове, скорей всего, я бы заделался земледелом…
Журналист: И рыбаком?
Художник: Рыбаком я никогда не был, а вот землю люблю. Если бы жизнь моя так сложилась, чтобы всё начать изначала, скорей всего, я бы так и остался крестьянином, земледелом-казаком. Так однажды сказал и Виктор Астафьев о себе, когда его так же спрашивали журналисты. Вообще я этого великого современного писателя очень люблю: люблю его прямоту, резкость, люблю правдолюбие и огромный талант. Когда он говорит о писательстве, он не шутит, он его часто так и сравнивает с землепашеством, со строительством, например, своей избы посреди леса или поля. Он прав: писательство – это пахота, и пот, пот, пот!
Журналист: Что, Виктор Астафьев – ваш любимый современный писатель?
Художник: Я бы так не сказал, я люблю, ценю и глубоко уважаю этого человека и художника всего целиком, как золотой самородок, как что-то большое и цельное в нашем искусстве. Вообще слитность личности и художника очень важна в искусстве – по этим критериям Виктору Петровичу Астафьеву теперь, по-моему, равных нет.
Журналист: Вы со всем согласны, что говорит Астафьев о поэзии, литературе и литераторах, о писательстве?
Художник: Конечно нет. Например, я не приемлю его «наездов» на Чехова, я не соглашусь никогда, что как писатель А. П. Чехов – это «мальчик в коротких штанишках» по сравнению с Н. Лесковым. Хотя надо правду сказать, что талант Лескова теперь сильно занижен. А вот то, как говорит В. П. Астафьев о Владимире Высоцком, я с этим абсолютно согласен, Владимир Высоцкий как поэт достаточно слабое явление, а вот как актёр, как бард, как поэт-песенник он, пожалуй, велик. Но теперь почти все его называют просто поэтом. А это неправильно Он не чистый поэт.
Журналист: Вы любите поэзию Н. Рубцова?
Художник: Поэзию Н. Рубцова я очень люблю. И считаю его последним, чрезвычайно одарённым, органичным и чистым поэтом.
Журналист: Ещё об Астафьеве, какие его вещи вас восхищают больше всего?
Художник: Конечно, это, прежде всего «Царь-рыба», не понимаю как в наше время можно так написать, сильно и образно, это роскошный, живописный русский язык, которому нигде не научишь. Тут В. П. Астафьев совершенно прав, что настоящим писателем, как и настоящим поэтом, нужно родиться. Люблю я его и «Оду русскому огороду», и «Проклятые и забытые».
Журналист: А что о себе думаете вы?
Художник: Всякий на моём месте уже бы сдался давно и назвал себя неудачником… но только не я; я поэт-экспериментатор, я и экспериментатор-художник, я очеркист, эссеист и рассказчик. А если вы меня спросите, писатель ли я или литератор, я отвечу, что я лишь скромный записочник… Но я глубоко верю, что мои иные записки со временем станут подороже иных романов знаменитых писателей…
Журналист: Вы надеетесь на посмертную славу?
Художник: Отвечу прямо: слава мне совсем не нужна ни прижизненная, ни посмертная. Мне нужно обыкновенное, прочное и долговременное признание моих усилий и наработок в искусстве. Вот и всё.
Журналист: Вы не любите славу? Вы сторонник затвора и одиночества?
Художник: У В. П. Астафьева есть замечательная фраза, которая родилась у него в деревеньке Овсянка: «Отравляющая сладость одиночества». Эту фразу я очень люблю, потому что знаю цену настоящему одиночеству. Я это состояние очень люблю и не променяю его ни на какие коврижки: награды, премии, застолья и признательные тосты в ЦДЛ или в ЦДРИ…
Журналист: У меня иногда складывается такое впечатление, что вы просидели в тюрьме десяток лет… извините, конечно, почему это так? Такое впечатление, что вы, как и Варлам Шаламов, всё как-то не можете очиститься от той коросты и лагерной пыли, которые наложили на вас неизгладимый отпечаток.
Художник: Я прошу вас не трогать Шаламова. Это для меня святой человек: то, что он вынес на протяжении почти 20 лет заключения, это непосильная ноша для меня. Я бы сломался на первых трех или пяти годах колымской каторги… Но вы верно заметили, напомнив мне о несвободе.
Да, я действительно долго был не свободен. Но это какая-то иная несвобода, чем лагерная.
Журналист: С кем из известных писателей вы нынче знакомы, а с кем на короткой ноге?
Художник: На короткой ноге… Ну, это теперь уже вышло из моды. Знаком я с Ю. Кублановским, с И. П. Золотусским, встречался не раз с С. Лесневским, С. Есиным, близок с П. И. Ткаченко, моим земляком. Особенно хотел бы сказать об этом последнем: чрезвычайно способный, разносторонне образованный человек, он полковник в запасе. Но, как и у всех военных людей, у него честолюбия выше крыши! Он критик и по дарованию совсем не художник, но завистлив и обидчив. Я ему по эл. почте послал статью «200 лет М. Ю. Лермонтова», послал «Крым» и кое-что ещё – ни ответа ни привета… А вы говорите «на короткой ноге»…
Журналист: Чем для вас так притягательна Москва?
Художник: Музеями, выставками, книгами, людьми. Теперь я нахожу, что Москва – удивительный город: яркий, шумный, многолюдный и… пустынный. Да-да, не смейтесь, Москва мало отличается от пустыни, в которой некогда я жил. Я нахожу, что для меня это очень хорошо! Ведь как тяжело в провинции быть у всех на виду, например в какой-нибудь деревеньке. А в Москве можно затеряться легко, «быть не как все» или белой вороной… Ведь что греха таить, теперь я часто, даже на фоне известных писателей или знаменитых художников, выгляжу как белая ворона. О таких, как я, в русской глубинке обычно говорят: «Ваня Огненный», или: «Ваня Дурко», или «чудак человек, а не лечится», а что ещё хуже – неудачник. А одна неумная барышня меня даже назвала старым козлом! Так что Москва для меня – это единственное место, где я теперь хочу жить, где легко затеряться…
Журналист: Поговорим теперь о вас как художнике. На вашем мольберте сухие цветы, сухие подсолнухи… Для вас это символ современной Москвы?
Художник: Скорей это символ засохшего «я» художника… Это символ того, как легко можно засушить свой талант в наше время (особенно если возьмутся за это врачи). Нам всем нынче вместо роскошных цветущих подсолнухов Ван Гога остаётся писать лишь сухие цветы…
Журналист: Вы – скептик. То, что вы сказали относится и к А. Шилову, и к И. Глазунову, и к С. Андрияке?
Художник: Да, это так. Эти художники средней руки, хотя как мастера они первоклассные! Но Марк Шагал, как известно, рисовал слабенько, но какой это великий художник! Теперь мало понимают живопись, мало размышляют о ней, теперь отличить зёрна от плевел даже художественные критики не умеют. Грустные времена.
Журналист: Вы – скептик. А как вам искусство Анатолия Зверева?
Художник: Зверев? Это хороший художник, даже большой. Я его очень люблю и поражаюсь его вкусу. Но теперь даже такой талант живописца – огромная редкость.
Журналист: Если говорить о Москве как о пустыне для этого вечно неприкаянного, пьяного, а то и гонимого художника Москва тоже была как пустыня, где художник прятал своё одиночество?
Художник: Не думаю. Анатолий Зверев был всегда в гуще людей, со многими он был знаком, со многими дружен, так он и жил и творил, у всякого встречного «прося рубль на похмелку». Так сложилась его биография.
Журналист: Вы раньше сказали, что к стану неудачников не причисляете себя. А как же название этих записок, в черновом варианте я вижу слова «записки неудачника». Но тогда что для вас удача? А. Шилов или И. Глазунов… они в центре Москвы имеют свои галереи, а как вы относитесь к этому?
Художник: Илья Глазунов и его Российская академия – это для меня теперь почти одно важное дело в национальном масштабе. Я раньше критиковал И. Глазунова как художника. Но когда в Манеже я увидел выставку студентов его Академии, их дипломные работы, я поостыл. Я закрыл глаза теперь на его довольно слабую живопись и говорю: «Хвала Илье Глазунову – ректору, академику, государственнику! Его одна воссозданная Академия искупает многое».
Журналист: А Шилов?
Художник: Александр Шилов – это почти катастрофа. Не понимаю, что этот художник читал, о чём размышлял, чем мучился? Ведь ещё Леонардо да Винчи говорил, что художник, который не сомневается ни в чём в себе, тот немногого и достигнет. Шилов уверен, что он классик, что он абсолютный огромный талант в современной русской живописи. Мне всегда хочется спросить: а где же культура, где образованность, где вкус, где диалектика?
Провинциализм искусства Александра Шилова убивает меня… Так что к неудачникам я скорей отнесу таких современных русских художников-ретроградов, чем себя. Хотя в Москве я ощущаю себя как в… пустыне.
Журналист: На одном из интернет-сайтов вы разместили свою статью «Феномен Шилова». Многие назвали её очернительством. Многие, напротив, сказали, что давно пора эту правду сказать! Но теперь вы удалили эту статью. Вы что, испугались скандала, или суда, или каких-то других неприятностей?
Художник: Нет, это не так. Просто это публичное выступление преждевременно. Если наша художественная критика так слаба или она спит, если «сон разума» нынче так сладок и приятен и для публики, то не нам, художникам, будить публику ото сна… Если мы во времена соцреализма не смогли воспитать вкус нашей публики, то одной разгромной публикацией не поправить этот пробел. Я эту статью написал для себя да для двух-трёх людей, понимающих живопись. Остальная часть общества может спать и совсем не проснуться. Не мне её будить.
Журналист: А Никас Сафронов?
Художник: Это замечательный мастер, он рисует, как бог. К сожалению, ни одной божественной, яркой и оригинальной мысли я от него никогда не слышал. Он сладко спит своим тяжёлым коммерческим сном. Но я люблю его таким, каков он есть, ион не в обиде.
Журналист: Вилен Фёдорович, я теперь понимаю, почему вас все называют по имени – Вилен, на французском языке это означает ужасный, гнусный… Вы себя ощущаете таким, как это звучит по-французски?
Художник: Да, это имя означает ужасный, гадкий (или не простой, сложный, как для себя отмечаю я). Известный французский актёр Жан Маре носил настоящее имя Вилен. Но это ему не помешало стать Жаном, а потом сыграть ряд ролей, где он борется против лжи, зла, коварства и неправды. Если хотите, я себе и присвоил это имя только потому, чтобы заострить эти вопросы нашего времени. Жить не по лжи– вот какая потребность нашего времени. Ложь, глобальная ложь, лицемерие и двойные стандарты – вот что более всего угрожает теперь миру! Мы, русские поэты и художники, всегда отличались стремлением к правде, в ней, правде жизни, правде искусства, правде Евангелия и совестливости, я и вижу теперь спасение миру! Ради этого одного, ради правды я и живу, и творю в меру своих скромных, очень средних творческих сил.