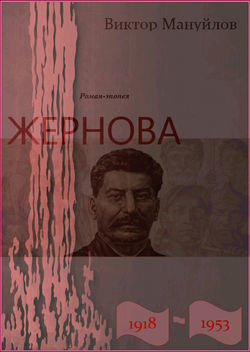Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга одиннадцатая. За огненным валом - Виктор Мануйлов - Страница 1
Часть 40
Глава 1
ОглавлениеВ последние дни учения на местности Двадцать третьего отдельного стрелкового штурмового батальона стали особенно интенсивными. Весь батальон перебрался в степь километрах в десяти от города Сталино, жили в палатках на берегу ставка, заросшего камышом и кувшинками, подъем в шесть, отбой в одиннадцать, кормежка не ахти какая, а все бегом, все бегом, так что люди, едва добравшись до постелей, падали на них и засыпали мертвецким сном, иные даже не сняв сапоги. Комбат Леваков сам следил за учениями, сам ставил задачи, исходя из одному ему известных установок, ротные стервенели, взводные надрывали глотки, подгоняя штурмовиков, а те сами себя называли шумовиками, кривя губы в ядовитой ухмылке.
Ясно было только одно: их готовят к боям, в основном наступательного характера, потому что каждый день отрабатывались одни и те же задачи: атака по сигналу ракеты, атака без криков, по ровному полю, изрытому воронками от снарядов и мин, оставшимися от минувших боев, атака стремительным броском на передовые позиции условного противника, гранаты в окопы и блиндажи, в доты и дзоты, короткие очереди по макетам, торчащим из окопов, и дальше, дальше… ко второй линии, к третьей, к жиденькой гряде пирамидальных тополей на самом горизонте. Там короткий отдых и тем же манером назад.
Были занятия и по удержанию рубежей: окапывание, атака настоящих танков, только не наших, а немецких, трофейных: пять штук T-IV, один «тигр» и две «пантеры», а за ними, изображая немцев, шла какая-нибудь из рот. Ну и стрельба… холостыми, конечно. Но таких занятий провели всего два, и не столько потому, что этого было достаточно, а по той причине, что в одном из танков вместо холостых в диске оказались боевые патроны, и пулеметчик, пока разобрались, успел убить и ранить полтора десятка человек. Разбирались следователи из военной прокуратуры, и чем это закончилось для танкистов, осталось тайной, а танки погрузили на платформы и увезли… тренировать другие батальоны.
Незаметно подошел ноябрь, зарядили дожди. Однако учения не прекращались. Зато стали поговаривать о близкой отправке на фронт. И все стали думать: скорей бы уж.
* * *
В один из таких дней, едва батальон вернулся с учений, промокший, вывалявшийся в грязи, едва был съеден ужин, состоящий из перловой каши с комбижиром, воняющим соляркой, и выпита кружка горячего чаю с куском хлеба и кусочком сахару, как во второй роте появился представитель «Смерша» старший лейтенант Кривоносов и, отозвав в сторону командира первого взвода лейтенанта Николаенко, передал ему приказ немедленно следовать в город, в комендатуру.
– Зачем? – искренне удивился Николаенко.
– Там объяснят, зачем, – отрезал Кривоносов, который и сам знал только то, что передал Николаенко. Зато он знал другое: ему в руки попало письмо Николаенко, адресованное какому-то старшему лейтенанту Солоницыну, в котором Николаенко писал, где служит и кем, и что очень недоволен такой службой. Письмо это Кривоносов переслал по команде, и, судя по всему, вызов Николаенко в особый отдел «Смерша» связан с этим письмом. Потому что, если бы Николаенко вызывали не по линии «Смерша», а по какой-нибудь другой, то не через Кривоносова бы отдали этот приказ.
Понял это и лейтенант Николаенко. Хотя и не сразу, а вслушиваясь в чавкающие шаги особиста, удаляющиеся вдоль строя палаток. И похолодел от дурных предчувствий. И тоже связанных с этим письмом. Черт дернул его отправлять письмо через батальонных письмоносцев, зная, что Кривоносов читает все письма, которые пишут в батальоне или присылают в батальон. Поэтому все предыдущие письма Николаенко отдавал на гражданскую почту, хотя и там без цензуры не обходилось. Так он ничего такого и не писал, а в гражданской цензуре сидят небось какие-нибудь придурки, которые ничего в армейской жизни не смыслят.
Но, думай – не думай, а делать нечего – идти надо. Николаенко доложил о вызове командиру роты лейтенанту Красникову, вскочил на подножку «студебеккера», увозящего в город опорожненные котлы из-под каши, и, пока ехали, все думал, зачем его вызывают, потому что никакой особой вины за собой не чувствовал. Ну, написал, что очень недоволен тем, что попал в такой батальон, ну и что? За это от фронта не освободят, в тыл не пошлют. И, в конце концов, решил, что вызывать могут и не обязательно из-за какой-то вины, а по другому поводу, если иметь в виду, что старший брат его служит в НКВД и даже, может быть, в том же «Смерше». И Николаенко успокоился, и в знакомое здание комендатуры вошел смело и даже весело: пусть видят, что он ничего и никого не боится, потому что бояться ему нечего, он не преступник, а боевой офицер, и не тыловикам, которые не нюхали фронта, распоряжаться его судьбой.
Он доложил помощнику коменданта о прибытии, и тот, глянув в свою тетрадь, велел ему подняться на второй этаж, где располагался особый отдел, к старшему лейтенанту Дымову. При этом посмотрел на Николаенко как-то весьма подозрительно, так что у того снова по телу побежали мурашки, и на второй этаж он поднимался уже не таким гоголем, а порядочно обеспокоенным, если не перетрусившим. Он даже почувствовал, что и руки у него дрожат, и во рту пересохло.
– А, черт! – сказал Николаенко вполголоса и остановился между этажами, решив покурить и успокоиться.
«Если что они за мной и числят, хоть бы и письмо, – думал Николаенко, – так исключительно по недоразумению. Да и числят что-нибудь пустяковое. Иначе бы не вызывали, а взяли бы тепленьким… как взяли летом сорок второго капитана Пронченко, который, напившись, орал, что везде сидят предатели и дураки, только поэтому немец опять прет, хотя никакой внезапности нет и в помине».
Докурив папиросу, лейтенант Николаенко несколько раз, успокаивая себя, вдохнул поглубже воздух и резко выдохнул, поднялся на второй этаж и в конце коридора нашел дверь под номером 27, постучал, открыл и вошел в узкую длинную комнату, в которой у самого окна сидел за столом человек и смотрел на него, Николаенко, но о том, что он смотрел, можно было лишь догадываться, потому что лицо человека было в тени.
– Я – лейтенант Николаенко, – произнес Николаенко с вызовом. – Мне сказали, чтобы я прибыл к старшему лейтенанту Дымову… Это вы – Дымов?
– Проходи, лейтенант. Я и есть Дымов.
– Чего это я вам вдруг понадобился? – начал Николаенко, подходя к столу и чувствуя, как на него накатывает раздражение: какой-то старлей заставил его трястись на машине, в то время как его взвод уже спит и видит третьи сны, а он, лейтенант Николаенко, уставший не менее других, должен теперь выслушивать этого… этого… А на чем он отправится назад? Пешком?
– Садись, лейтенант, – не отвечая на вопрос, спокойно промолвил Дымов. – И не лезь в бутылку. Если тебя вызвали, значит, надо было. – И Дымов отвернул в сторону лампу, так что отчетливо высветились его высокий лоб с залысинами, два ордена на груди, несколько медалей и нашивки за ранение.
Николаенко сел, развернув ногой стул, но совету Дымова не внял:
– Ты что, старлей, думаешь, у меня других забот нету, как тащиться..? – решил он показать, что ничуть не боится этого особиста.
– Заткнись! – тем же спокойным тоном оборвал его Дымов, не дав закончить фразы. – Заткнись и слушай, что я тебе буду говорить. А рот откроешь, когда я тебе разрешу. – И с этими словами Дымов откинулся на спинку стула и с насмешкой посмотрел на присмиревшего Николаенко. Затем продолжил: – Ты, небось, думаешь, почему я к тебе не приехал?.. А потому, что таких дураков, как ты, сотни, а я один, и за всеми не набегаешься. Так что заткнись и не вякай… Кури вот, – и Дымов толкнул к Николаенко пачку папирос «Пушка» и коробок спичек.
Но Николаенко даже не шелохнулся, глядя на Дымова ненавидящими глазами. Только на Дымова его взгляд не произвел ни малейшего впечатления. Он открыл папку и стал читать: «Батальон, в который я попал, называется штурмовым, а на самом деле это самый настоящий штрафбат, только сформирован из бывших офицеров, побывавших в плену и на оккупированных территориях, прошедших тщательную проверку в фильтрационных лагерях НКВД. Вместо того чтобы послать этих людей в действующую армию на офицерские должности, хотя бы и с понижением, их нарядили в солдатские гимнастерки и погонят на пулеметы, чтобы искупали свою вину кровью. И это в то время, когда в частях, сам знаешь, восемнадцатилетние мальчишки командуют взводами и даже ротами. Это не просто головотяпство, а преступное головотяпство…» Узнаешь? Кому писал, помнишь?
– Узнаю, – произнес Николаенко севшим голосом. – Но тут же вновь решил показать свой норов: – Ну и что? Что тут такого? Преступление? А я специально это написал, чтобы обратить внимание… Ты что, считаешь, что это хорошо? Майоры, подполковники в солдатских гимнастерках – это правильно?
– Заткнись! – снова оборвал его Дымов. – Правдоискатель выискался. Такие, как ты, только воду мутят на руку фашистам, а не помогают своей армии. Ты что думаешь? Ты думаешь, наверху такие идиоты сидят, что не понимают, что делают? Ты только тех видишь, которые в твоем батальоне. А сколько их вернули в строй командирами? Это ты видишь? Нет, не видишь. И не твое это дело видеть. Ты командуешь взводом, вот и командуй! А когда дослужишься до генерала, – если дослужишься, – тогда и будешь рассуждать, что правильно, а что нет. Это армия, а не бордель, не институт благородных девиц! И тебя сделали офицером не для того, чтобы ты свою армию критиковал, а чтобы грамотно воевал. Критиков и без тебя хватает…
Николаенко понимал уже, что, действительно, свалял дурака. И все потому, что с самого начала не нравилось ему служить в этом батальоне: все тут было не так, как в тех частях, в которых он до этого воевал, хотя и там всякой дури хватало. И письмо он написал лейтенанту Солоницыну, с которым подружился в госпитале, в ответ на его, в котором каждая строчка дышала желчью и презрением. Он, Николаенко, отправляя свое письмо не подумал, что ему придадут такое значение. А Солоницын писал о головотяпстве командования, которое гонит за ради наград солдат на пулеметы, что немцы воюют грамотно, в каждом их шаге чувствуется профессионализм, высокая выучка, а у нас солдат идет в бой, лишь три раза выстрелив по мишени из винтовки, что на поле боя он не соображает, куда ему стрелять, а завидев немецкий танк, теряет голову от страха. При этом Солоницын высказывался против отмены института комиссаров, чем, по его мнению, был подорван революционный дух армии, без которого «нам нечего даже думать, чтобы соваться в Европу, потому что мы идем туда мстить, а надо нести в нее идеи интернационализма и братства трудящихся всех стран». Таких писем – от Николаенко к Солоницыну и наоборот – наберется с десяток.
И вспомнив все это, Николаенко тут же покрылся липким потом.
– Дошло? – спросил Дымов, внимательно наблюдавший за лейтенантом. – Ну и ладненько. Скажи спасибо своему брату, иначе бы загремел ты сейчас по пятьдесят восьмой статье – только бы тебя и видели. И характеристики бы хорошие не помогли. А теперь слушай дальше: делу этому я хода не дам. Но это не значит, что оно исчезнет. Потому что зарегистрировано и все такое прочее. Так что, если ты кому-то еще писал нечто похожее, или если с твоей стороны еще такая же промашка выйдет, это письмо извлекут на свет божий, приплюсуют к другим, и тогда тебе и сам господь бог не поможет. Понял?
Николаенко молча кивнул головой.
– А теперь вот тебе письмо от брата, распишись в получении и топай назад. Спросят, зачем вызывали, скажешь, что за вот этим письмом. Понял?
– Понял, – произнес Николаенко, вставая.
У двери он замялся, подумав, что, может, лучше сказать этому Дымову о письмах Солоницына и своих, ответных, чтобы тот имел в виду и как-то там повлиял, если они откроются, но не решился. В конце концов, засекли только это письмо, а другим, видать, не придали значения, да и служил он тогда далеко от этих мест, а там своя цензура, а ему завтра-послезавтра на фронт, поэтому не стоит самому совать в петлю свою собственную голову.
На лестничной площадке он вынул из чистого незапечатанного конверта тетрадный листок бумаги. На этом листке было всего несколько строк, написанных размашистым почерком старшего брата: «Если бы я, Алешка, был рядом, набил бы тебе морду. Чтобы прежде головой думал, а потом рот открывал или бумагу пачкал. Пиши почаще матери, а то она обижается. Твой брат Степан».
Степан звание имел капитана госбезопасности. Может, этот Дымов знаком с его братом, иначе все могло пойти по-другому. И Николаенко, судорожно вздохнув, сунул письмо в карман и вышел в ночь.
Было темно, как в погребе. Моросил дождь. Идти в батальон – это он только к утру доберется, а утром снова в поле. И Николаенко, постояв немного на крыльце, чтобы глаза привыкли к темноте, отправился к одной крале, с которой познакомился на танцплощадке еще в сентябре. Он переночует у нее, а утром вернется в батальон на «студере» вместе с завтраком.
Краля жила в женском общежитии, в которое мужчин не пускали, но комната ее расположена на первом этаже, так что стоит лишь постучать в окно, окно откроется – и ему десяти секунд хватит, чтобы оказаться в комнате, в которой живут еще три девицы. Все четверо приехали с Ярославщины по оргнабору на восстановление Донецкого промышленного района. Случись подобное знакомство в мирное время, Николаенко к этой крале, пожалуй, и не подошел бы. Но в мирное время и краля его была бы другой, так что неизвестно, кто к кому подошел бы, а кто нет. Может, в то время он на ней бы и женился. А жениться, когда завтра могут убить, когда вместо тебя завтра к ней придет кто-то другой, потом третий… Нет, уж лучше все это оставить на после победы. Если доживет. Но еще лучше – пока об этом вовсе не думать.
Он влез в окно, разделся в темноте же под притворное сопение остальных девушек, скользнул под одеяло и, забыв обо всем на свете, стал шарить по горячему телу своей крали горячими же руками, задирая ночную рубашку и тычась губами в ее лицо. Краля засопела, обхватила ухажора руками и ногами, односпальная железная кровать с провалившейся сеткой заскрипела под ними и заходила ходуном.