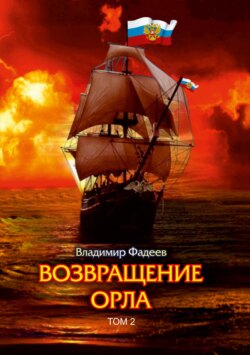Читать книгу Возвращение Орла. Том 2 - Владимир Алексеевич Фадеев - Страница 12
16 мая 1988 года, понедельник
Златая цепь
Гангара
ОглавлениеКак слово звать – у словаря не спросишь,
Покуда сам не скажешь словарю.
Б. Ахмадулина
Вернувшись через несколько часов, Семён попал в самый разгар филогеофизических дебатов. Аркадий уже не отнимал ладонь от груди, видно было, что непросто ему противостоять команде скептиков.
– Сеня… наконец-то, хоть ты за меня будешь. Эти балбесы, оказывается, не то что великую мортву не знают, они и про русскую Ямуну не слышали, хотя я им уже рассказывал!
Семёна и самого распирало от открытий, но любопытство – что там ещё разглядел в воде Аркадий – взяло верх.
– Почему Ямуна русская? И что в ней русского по смыслу? – возобновил прерванное нападение Африка.
– Да это просто «ямина». Широкое и глубокое русло, мы же говорим про широкую и глубокую яму: «ямина». Вот она и Ямуна.
– Ты же вчера по-другому врал! Дочь бога, акаши-акакаши… А теперь всё от ямины!
– Ничего я не врал, я по-честности!
– Так что сначала было: Ямуна или ямина?
– Обе они от отца, бога Ямы.
– Сёстры? И ещё брат Ямал, – захохотал Африка.
– Дурак-дурак, а понимаешь.
– Ладно. А Ганга откуда взялась? Что в ней русского?
– Ганга вообще самое русское из всех слов. Во-первых, Ганга и Волга наполовину тождественны, и через эту-то половину вход в разгадку. Га – это же дорога, путь. Но-га, доро-га, теле-га… кстати, ихний «дилижанс» – это плохо произнесённое теле-га: крупное животное, бык, вол, лошадь, телец, словом, сопряжённый с продвижением по пути, по «га».
– Так что, Вол-га – это водная дорога? Мокрый, волглый путь?
– Не всё так просто. Волгу как ещё раньше называли?
– Итиль.
– Это тюрки, и совсем недавно, одновременно и даже после Волги. А раньше? Раньше имя ей было Ра. И в «Ригведе» мифическая река древних ариев, по которой они шли с севера на юг, называлась «Раса», то есть Русь, и жили мы на Руси, потому и говорим «на», а не «в». Все искусственные народы живут в Польше, в Германии, в Англии – в клетках, а мы, кондовые, – на Руси, на реке, на воле.
– А Волга-то почему?
– От влаги, – не удержался от очевидного Семён.
– А вот и нет, скорее влага от Волги.
– Откуда же Волга, если и в твоей «Ригведе» она не Волга, а Раса, Русь, Ра?
– Из «Ригведы» же: по берегам Расы жил народ пани, а божественного предводителя этого народа звали Вал, у индоариев он стал Ваалом, Баал и Велес тоже он. Валаам, реки Вала, Валуй, но самое главное – земля, откуда Волга начинается. Вал-дай, богом данная. А Волга – это дорога Вала, путь, по которому Бог-предводитель уводил свой народ в тёплые страны и вообще по которому он ходил. Вал-га, дорога бога. Ты не задумывался, почему в Каспий Волга впадает, а не Ока и не Кама? Ока длиннее, Кама полноводней, по любой арифметике Волга не катит, да только дело не в арифметике, а в Пути.
– Так Волга или Валга?
– А ты произнеси десять раз подряд Валга.
Семён затараторил: «Валгавалгавалгавалга…»
– Что слышишь?
– Да, Волга.
– То-то.
– Но более общее поэтому название у неё и было в те времена Ганга. Ибо – путь.
– Час от часу. И тут индусы…
– Не индусы, Ганга – чисто русское, старорусское слово. «Га» – путь, дорога. А река – сама по себе путь, независимо от того, плывёт кто-то по ней или нет, слушай: Вол-га, Селен-га, Печен-га, Осу-га, Моло-га, Оне-га… да мало ли.
Когда Аркадий сделал для себя это открытие, он по квадратику обследовал европейскую карту Союза, и у него получился внушительный список, который, переписанный в алфавитном порядке, одно время был даже чем-то вроде неосуществляемого плана рыболовных путешествий: Авлога, Бурга, Ведуга, Ветлуга, Вердуга, Вига, Визенга Большая (значит, есть и малая), Воинга, Вольга, Воньга, Воймига, Выжига, Енга, Калга, Киренга, Кондега, Кувдженьга, Луга, Мга, Мшага, Невга, Нерга, Олонга, Пезега, Пенинга, Пинега, Пойга, Руйга (две), Серьга, Унга, Юга, Янега, Ярьга, Яньга. Ясно же – это реки-дороги. К списку добавил три реки сибирские, которые знал без карты, – Хатанга в Красноярском крае, Селенга и Ага в Забайкалье. После списка никаких сомнений в правильности его теории быть уже не могло.
– Когда же по этому водному пути ещё и организован твой путь, то есть ты не просто щепкой по течению, а идёшь по этому речному эскалатору, то получается якобы удвоение, движение по движению, путь-на-путь, га-на-га, Ганага, или в звучании – Ганга. В современном смысле Ганга – это просто «судоходная река», но Ганга короче и точнее. И супер-по-русски. Все судоходные реки, кроме каких-то своих местных прозвищ, назывались Гангами, а за главными водными путями это имя закреплялось как собственное. Во всяком случае, одно «га» стопроцентно обозначает если не судоходство в широком торговом смысле, то использование этой артерии хотя бы как трассы, вдоль которой можно попасть в нужное место. Индусы уже в память о великой судоходной реке, где им пришлось счастливо пожить до холодов, может, не одну тысячу лет, и реке их исхода, принесли это имя на новую родину, где река, награждённая таким именем, стала священной. А у нас из общего названия Ганаги осталось одно более конкретное, собственное, но тоже божественное: Волга, путь Бога.
– Была Ганга – стала Волга. Была Ямуна – стала Ока. Это-то уже наше имя, недавнее?
– Не мечтай, у таких рек имена Будде в прадедушки сгодятся.
– Ока – от ока же?
– А может, от финской «йоки»? Йока у них река.
– Нет, от «ока»! Согласись, у воды и глаза, то есть у реки и ока очень уж много общего, ты же сам в неё смотришься.
– Так-то так, но! Но перекрывает всё, конечно, санскрит, там «окас» – жилище, приют, родина. И Сергей Иваныч говорил. Вот она, – Аркадий обвёл рукой пространство, – вот она, родина, жилище, приют. Благодатнейшая же река!
– Ты же говорил, Ока от Акаши? А Акаши – от каши.
– Ну, правильно: каша где? В жилище!
– В голове у тебя каша. Ладно, а когда реки оканчиваются на «ра»? Нара, Пахра, Жиздра…
– Культовые, солнечные реки. Глубоко надо нырять, чтобы разобраться. Но – интересно! Ведь как бывает: говоришь этими словами каждый день – ни один нерв не шевельнётся, говоришь и говоришь, да, собственно, так и должно быть: рыба вон плавает в реке и совсем не думает о том, с какого такого родника вытекли первые её струи… не думает, но знает, потому что в каком-то главном смысле она и есть тот самый родник, вся память, всё знание о нём… Человек тоже ведь – вся земля. Так и я: произнесу какое-нибудь слово, и как пронзит меня этакая обратная молния – сразу родник этот первый вижу, все речки и ручейки, которые в это слово втекали. Вот Ока, не имя, вода эта, сколько в неё втекло! Ужердь, Дугна, Крушма, Калужка… Ты послушай только, какие вкусные у окских притоков имена, говоришь, как пряники ешь: Мышега, Комола, Таруса, Дряща, Вашана, Скнижка, Беспута, Восьма, Смедва, Любинка, Мутенка… я про большие и не говорю: Угра, Москва, Протва, Осётр… А слово… каждое слово – это такая же Ока, вот оно течёт, никому как будто ничем не обязанное, само по себе, но у него есть исток, притоки, левые, правые, чистые, грязные, торфяные, железистые…
– Ну, это же банально – река, речь…
– Да ничего не банально! – Аркадий заволновался. – Я тебе не про всю речь, про слово, про каждое отдельное слово. Ты понимаешь, так в мире всё запутано, трижды восемь раз переврано, и речь уже мутится, только по слову ещё можно добраться до истока, до того самого ключика, из которого всё началось – и само слово, и речь, и эта блудница история… только слово! Ведь кроме рек уже и смыслу не на чем держаться.
– А города?
Аркадий махнул рукой с досадой:
– Что и осталось? Муром да Шатура, а уже Егорьевск с Воскресенском, увы, христианские новоязы.
– Зато понятно, что означают. А Шатура – ни пойми что, то ли от чёрта, то ли от шаткома местного.
– Шатура древнее Мурома и всех остальных, это тоже санскритское слово…
– Ну… понесло, засанскритил!
– Да мы все говорим на санскрите, только не знаем об этом… Вот косим трын-траву, отчего – трын? А это трава на санскрите – трын.
– Достал ты, Аркадий! Мы на русском говорим, это твой санскрит у нас надёргал, что успел, а ты на него молишься.
– Что надёргал?
– Я ж говорю: что успел или что не успел забыть. Поэтому-то у них трын остался, а травы нет.
– Может, и так… А Шатур – это чатур, «четыре» на санскрите. Да и по-индийски… да и по-русски. В этом месте, видимо, было четыре холма…
– Ага, в болоте…
– Или четыре реки начинались… Скорее, четыре реки. Важные для местных, потому что должны течь в разные стороны. Две я знаю – Цна, Поля…
По реке плыл буксир «Речфлот». Дал два истошных гудка, словно хотел обратить на себя внимание берега.
– Скажи-ка, Аркадий, мифологические сирены названы от сирены? Или наоборот?
– Сирены – от русской райской птицы Сирин, кто слышит её пение, умирает.
– Всё-то у тебя от русского.
– Куда ж деться… все слова – русские.
– И Аркадий?
– Конечно! Страна такая была на русском севере.
– Ну и врать! – возмутился Семён – На каком севере? В Греции, райская страна с патриархальной простотой нравов. В Гре-ци-и!
– В Гре-е-ции, – обиженно передразнил Аркадий. – Аркадия от Арктиды, откуда в Греции возьмётся райская страна с патриархальной простотой нравов? Только в Гиперборее, которая была в Арктике. Потому и я Аркадий.
– Вот трепло! Ты Аркадий, потому что я тебя так обозвал, чтоб не врал и не говорил красиво, когда не можешь.
– Всё в масть, всё в масть, – простодушно согласился лиофил.
– Гипербореи? А где же просто бореи? – вставил своё умное Африка. – Как их теперь звать?
– Так же и звать – буряты.
– Загнул! Гиперборея – на Кольском, а бореи – на Байкале?
– Не просто на Байкале, а, заметь, на реке Оке и в Орлике.
– Какая связь?
– Самая что ни на есть прямая тёмная. Пока.
– Да, – подал голос редко вмешивающийся в споры Капитан, – проходили мы на Оке порог Ара-Борей, четвёртая категория, километра полтора жути… там ещё какая-то древняя стоянка… Буреть, по-моему.
– В масть, в масть!
– А вон, смотри, плывёт французское слово «флот»…
Аркадий даже договорить ему не дал:
– Какое французское!? При чём тут бедные, несчастные, безъязыкие галлы? Самое русское!
– Вот встретит тебя какой-нибудь учёный лингвист – намылит шею.
– Или я ему.
– Ты-то по какому праву?
– По самому главному, народному, по-честности.
– Вот ты думаешь, что флот…
– Да не думаю – знаю, я в воду глядел! А лингвист твой – в рот немцу. Ты за кого? И вообще, это теория ядерных реакторов интернациональная, а язык – мой. Мо-ой! И плевал я на всю эту пролатинскую шушеру.
– Не умно.
– Зато по-честности. Они, неандертальцы, просто букву «п» не выговаривают. «Флот» – это от нашего «плот», как можно не слышать! Съезди в свою Францию, поищи там ихнему «флоту» ключи и притоки – не найдёшь. Одно голое «флот», разве что с производными, а всё гнездо здесь: плот, плотва, плотина, плат, плыть и дальше во всё плавающее, плоское, плетёное и плескучее.
У Семёна опять возникло ощущение, что точно при таком разговоре, и именно про флот-плот, он уже присутствовал – давно, когда его самого еще не было, а уже присутствовал.
– И всё это отсюда, отсюда… – Аркадий постучал теперь ребром ладони по берегу. – Смотри, то есть послушай, сколько притоков, не сразу разберёшь, что во что впадает, Кама в Волгу или Волга в Каму… Что такое простейшее плавсредство? Заметь: имена приходят от простейшего, сначала то, на чём плыли, получило имя, а потом, уже в другом плавании, по времени, оно усовершенствовалось по форме, размеру, но родовое имя всегда сохранялось. А простейшее – это связанные два бревна, на одном, сам понимаешь, неловко… Лучше три или пять. Их надо связать, сплести, сплотить и получим плот. Отсюда и плетень, и все заплоты, сплошные заборы из брёвен, и плотность, грамм на сантиметр в кубе, и сплочённость перед бедой. Плот – сплочённые брёвна для того, чтобы плыть и ловить плотву.
– Камбала поплоще будет, камбалу надо было плотвой назвать…
– Видишь, Сень, достали, неучи! Ты-то что нарыл?
– Нарыл… – Семён не знал с чего начать: убогие с линейкой да картой изыскания в библиотеке дединовского клуба так причудливо вплелись в информацию из Катиной тетрадки и вчерашних снов, что сам уже не мог отличить приснившееся от вычитанного, поэтому начал с самого неглавного. – Малец-то наш закона не нарушал!
– Ты о ком? – удивился Аркадий.
– Екатерина в 1775 году издала указ для всех сословий, запрещающий жениться ранее пятнадцати лет. А наш путник женился в 1771, мог себе позволить в четырнадцать.
– О, господи… всё?
– Не всё. Ты, знаешь, что в 1771 году была издана фундаментальная «Британская энциклопедия», и очень странная в ней Россия.
– Большая или маленькая?
– Как посмотреть… – сделал Семён неопределённый жест. – Россия только с Петербургом, а дальше уже не Россия, дальше уже Тартария с Тобольском и всей Сибирью – слышал про такую страну?
– Что-то слышал, не помню где…
– А вот где, – Семён развернул тетрадочку, – «Тартарскую сшивку откладывать нельзя»! А вокруг – Независимая Тартария с Самаркандом, Китайская Тартария с Чиньяном… Поспешили англичане на свою голову, годок-другой повременили бы – и на будущее бы хлопот себе убавили.
– Не пойму, к чему ты это, – вздохнул ожидавший речной темы Аркадий, зато Николаич, загрустивший было от всех этих ямун и осуг, зашевелил ушами.
– К тому, что уже в 1772 году китайцы, например, уничтожили все книги по cвоей истории, у них ни на одном клочке ослиной шкуры не найдёшь Китайской Тартарии с Чиньяном, не было – и всё. В Британской энциклопедии есть, а у китайцев, которые в этом смысле местные, – нет. Через год у нас начинается двухлетняя якобы крестьянская война, в 75-м, через два месяца, как Емельке голову отрубили, Екатерина опубликовала манифест, в котором пугачёвское восстание предавалось «вечному забвению и глубокому молчанию»; ещё через месяц на другой стороне шарика образовалась страна Америка, США, наш путешественник отправился «сшивать Тартарию», и в это же время она со всех карт и летописей исчезла, а Америка возникла.
– Да мало ли на свете в одно время событий происходит!
– События событиям рознь. Такое впечатление, что в эти годы мир, как вор, своё пальтишко наизнанку вывернул, чтобы не узнали. По России прокатилась волна переименований: Яик в Урал, Белатырь… кстати, Аркань, я Белатырь нашёл – до 1777-го так называлась… Уфа! В те же годы поменяли все гербы российских городов и областей – зачем? А староверы-некрасовцы в 1775-м ушли с Кубани и воевали против нас за турок. Не странно ли?
– Ты скажи лучше, нашёл в Сибири Волгу? – с хитринкой спросил Аркадий.
– Нет, не нашёл… – вздохнул Семён. – Но зато все Оки на месте, и Орлик на байкальской, недалеко от истока, как и наш.
– И уральскую нашёл?
– Конечно. Там как раз мишари, мещерские переселенцы живут, и у главного пугачёвского атамана, Салавата, там ставка была.
– И где она течёт?
– Прямо с горки под названием Южный Урал.
– Слышал я там про две горки, – подал голос Николаич, – Ямантау и Косьвинский камень. Высокие. К нам челябинские спецы с какими-то микросхемами приезжали, намекали, что с тех горок всю землю слышно и видно.
– Выше Лубянки?
– Выше. С Лубянки только Колыму видно, а с Ямантау даже колымскую изнанку. Очень мощное место. Летающие тарелки там – как самолёты в Домодедово: и длинные, и круглые, а в самой горе супергород с туннелями на тысячи километров во все края.
– Но Волгу-то, Волгу? – настойчиво тянул на себя одеяло Аркадий, и неспроста. – Нашего-то бродягу послали на Волгу. Саянская Ока куда впадает?
– Я слышал, сибирской Волгой Лену называют, – подключился к разговору и Капитан.
– А я слышал – Обь. Когда мы в Семипалатинске выезжали на рыбалку, – Виночерпий собрался повспоминать про пьянки на полигоне, но Аркадий перебил.
– Погодите вы – Лена, Обь… твою мать, – его уже распирало, – помните, я вам рассказывал про Ямуну? Что в то время, когда Оку называли Ямуной, Волгу называли Гангой, как главный водный путь – Га-на-га, помните? А уже после, может, через тысячу лет, имя ей стало Ра.
– А потом Итиль, а потом уж и Волга. Знаем.
– Это потом! Но был ещё период, вероятно, очень продолжительный и – более чем вероятно! – очень активный в смысле географических изысканий: период между Гангой и Ра, когда обжившие эту территорию наши предки стали всем водным путям, всем Гангам, Га-на-гам, давать особенные, отличительные от общего массива судоходных рек названия, с обязательным указанием на главное качество, главную ценность реки, как пути – окончание «га». Вот тогда-то, в эту великую творческую тысячу лет, появились и Осу-га, и Моло-га, и Оне-га… да мало ли. Ветлуга, Луга, Мга… сотни рек! Но Волга была особенной Гангой: мало того, что она была главным путём, она ещё была путём на солнце, на юг. Никакой Нил не мог назваться Ра, как бы велик ни был, потому что течёт против Ра, только великая река, текущая на солнце, могла называться Ра… как ты думаешь, Николаич?
– Я по вашим рекам не понимаю, может, Ра, может, Пра. Я физик.
– А физика, думаешь, из других слов сделана? – вспыхнул Аркадий. – Почему мезон – мезон?
– Средний, промежуточный по массе.
– Ну, правильно.
– От древнегреческого μέσος – средний.
– Беда с умными! Всё понимают, даже говорят вслух правильно: про-межу-точный. И дальше – стоп, гипноз! Твоё якобы древнегреческое μέσος это просто русское между. Как мезолит, средний каменный век, между палео и нео. У твоих древних греков кроме мезос шаром покати, а у нас и промежуток, и межа, и промежность, и мездра.
– Мездра-то тут при чём?
– Как? Мездра – подкожная клетчатка между телом и…
– Дрой? – Николаич захохотал.
– …именно «дрой». Дра – это кожа, шкура, но опять не от латинского дерматина-dermis, которая от якобы греческого δέρμα, а от жёсткого русского «драть»! Кожа – это то, что драли, сдирали, и драли, когда никаких греков с их якобы древнегреческим в помине не было! Ты, Николаич, такую теорию придумал, а телегу всё норовишь вперёд лошади поставить. Или энтропию свою любимую возьми – откуда?
– От древнегреческого ἐντροπία – поворот, превращение.
– Да я согласен, что от древнегреческого, просто надо же понимать, что всё древнегреческое от русского. Тропа и её обратка, ан-тропа, или как ты говоришь, поворот тропы. Превращение.
– Эк… – Николаич с удовольствием крякнул, – и как всё ложится!
– А Волга весь этот золотой век так и называлась: полностью, как главная артерия, – Ганга, но уже с царственной приставкой Ра. Ганга-Ра. Второе имя Оки, Ямуна, забылось, ушло вместе с будущими индусами-зябликами, Ока осталась, как и прежде, Окой, очень удачное имя, фокусное слово для большой воды, глаза-взгляда, дома-родины и старшинства: океан, око, санскритский окас, во всей Европе вода – ак(в)а, а во всей Азии к старшим мужчинам – приставка «ака»: Рустам-ака, Джамшит-ака, скажи Ген, ты же там бывал… И скорее всего, тогда слово Ока было мужским, означавшим старшую живоносную силу, то есть было в каком-то смысле – а может быть, в самом прямом – синонимом слова Орёл, Батыр-ака. Поэтому и один из первых крупных притоков – Орёл маленький, Орлик. То есть здесь, в самом плодородном, центральном, магическом месте и образовалась троичная именная матрица, в которую вмещалась вся сакральность земли и жившего на нём народа, своего рода троица, три в одном – сын-отец-дед, отец-сын-святой дух, тропа-дорога-путь. Молодого Орлика, которому принадлежит будущее, Орёл-ака, который Ока, выводит на Путь, к главной реке с именем Ганга-Ра. Орлик – Ока – Ганга-Ра. И так через всю евразийскую ширину, на равных расстояниях друг от друга, как крепости памяти, как печати на договоре между Землёй-матушкой и поселёнными на ней людьми: Орлик – Орёл-Ока – Ганга-Ра. И во что бы то ни стало эту матрицу надо было сохранить – навсегда, для потомков, которые должны будут в тяжёлую годину из неё силу черпать, и когда враги ли, иные племена, всё переназовут или исковеркают, чтобы лишить потомков силы предков, можно послать в прошлое ведающего гонца, чтобы он матрицу отыскал, прочитал и вернул земле и людям смысл.
– А в индийский Ганг никакая Ока с Орликом не впадает?
– Может быть. Только в него должна впадать Ямуна…
– С Ямунёнком.
– Да и зачем нам пока Индия? Я же говорю: в саянскую Оку впадает Орлик. Заметьте, у всех остальных притоков имена аборигенские, а Орлик и Ока – русские.
– Жалко, впадают они не в Волгу.
Тут уже Аркадий вскипел:
– Да при чём тут Волга?.. То есть как это не в Волгу? Я же говорю: Орлик – Ока – Ганга-Ра!
– Ну и что ты заладил: Ганга-ра, Ганга-ра…
И тут до Семёна дошло. До всех дошло. Все разом замолчали и переводили взгляд друг на друга, как заумные мудрецы, не заметившие отгадки перед собственным носом.
– Ганга-Ра – Ангара?
– Ангара – Ганга-ра!
– Слава тебе, господи, догнали! – выдохнул с облегчением Аркадий. – «Г» на выдохе не слышна, да за тысячи лет с потерей первоначального смысла кто её будет фиксировать? Тем более что сказочно звучит и без «г».
– Это без «б»!
– А все местные легенды про сбежавшую байкальскую дочь – это уже после, после, после, как и воеводы с топором во всех Орлах и Орликах.
– Слушай, Аркадий, а может, саянские имена были первыми, а у нас – дубликат? – Николаич проверял какую-то свою мысль.
– Нет, нет! Анга-Ра – текущая к солнцу, а это только Волга. Вся Сибирь течёт от солнца. Именно эти называтели шли отсюда туда.
– А может быть, ещё раньше пришли оттуда сюда, а потом просто вернулись на прародину?
– Может быть, но это во времена совсем доисторические, доганговские. Но в эпоху Ганга-Ра однозначно шли отсюда. Все Ганги – от наших судоходных, скажем так, речек, в честь их.
– И индийский Ганг?
– В первую очередь. И главные их боги – нашенские, только раздетые до набедренных повязок.
– Так уж и все? А Ганеша?
– Что Ганеша? Первый Ганеша был нарисован в Каповой пещере опять же на Южном Урале, от твоей башкирской Оки недалеко, только там он, понятно, был с головой мамонта. Словом, пришли и назвали всё, как дома. Это же так понятно! Ганга-Ра. В именах – сила, настоящие, ратифицированные там, – ткнул пальцем в небо, – имена меняют только предатели.
– Но-но-но! Хватил! Мы что, кроме Николаича, все предатели?
– Получается. А в старину, видно, с этим строго было: тут Новгород – там Новгород, там Ростов – тут Ростов, тут Галич – там Галич.
– Да, Галич – там.
– Зазеркалье! Даже – заамальгамье! Мало того, что поменяли имена – Свердлов, Сталин, Ленин… ещё и сами имена липовые. Ложь на ложь.
– «Два минуса умножь – получишь плюс, а ложь на ложь всего лишь ложь в квадрате, законы разные у чисел и у муз: мы множим маски, значит, души тратим».
– Сон, гипноз какой-то! Вся страна переназвана кличками убийц. Как в 770-х … Сто пятьдесят лет прошло, и снова перелицевали страну.
– Кроме рек, кроме рек!
– Всё равно фантасмагория. Колдовство. Это как поверх «Утра в сосновом лесу» нарисовать одним цветом пьяного медведя в клетке зоопарка. Кафка.
– Кафка – дитё. Горький Кафка. Горький Толстый Кафка. Сухово-Кобылин.
– Кобылин и Костылин… а также Застылин, Остылин и Пустылин. Здесь без аквадента свихнёшься.
– Пьяный медведь… Только его поверх другого «Утра» рисовали – стрелецкой казни, а стрелецкую казнь уже по сосновому лесу.
– А сосновый лес по берёзовой роще.
Как тут было не выпить…
Аркадий опять уселся на своего белого конька, а Семёну показалось, что это всё говорит не Аркадий, а он сам:
– Кроме прочего, можно определить время, когда произошёл исход с русской равнины на юг и восток. Разобьём это историческое время на пять эпох: эпоха Ганга, эпоха Ганга-Ра, эпоха Ра, эпоха Итиль, эпоха Волга. Сначала, в эпоху Ганга, предки капитально освоили Индию, и в разведывательном режиме – восток, ведь к тому времени появилась и река Анга, одна из самых сакральных в Приольхонье, а это же в чистом виде Ганга; потом, в эпоху Ганга-Ра, создали зеркальную Русь на востоке, а чтобы не было сомнений через тысячи лет, что это так, не одну, а три реки в связке назвали как в прародине, тысячекилометровый дубликат: Орлик с Орликом-посёлком в устье, Ока и Гангара. Вот и эталон для сверки, картотека. Между ними (самолёты-то не летали, БАМа не было) мистическая связь, а при обнаружении опасной разбалансировки организовывались, с Оки на Оку, миссии, инспекции, с полномочиями куда выше царских. Приказали Грозному – и восстановили Орёл, Екатерину про Орлик даже не спросили. Но ведь это только открывшиеся нам мелочи, а если всю историю через этот коллиматор просмотреть?
– Волгу в Волгу тоже небось с Итили не без них переименовали, как компромисс, чтобы главный корень оставить – «га».
– Может быть. А на Байкале в то время появилась и Селенга, и иже с ней, Селен-га, старшая сестра Ангары.
– Или младшая? Как определить?
– Кто кого рождает.
– Ганга-Ра течёт к солнцу, Селен-га – к луне? Ведь селена!
– Это же не по-русски!
– Как не по-русски? Селена – се луна. А луна – это лоно, поэтому Селенга – путь не к небесной луне, а к лону, которым для тех мест является Байкал, и из этого лона родится Ганга-Ра.
– Кстати, наша Ока начинается около города Малоархангельск, и где-то в верховьях Селенги тоже нашёл город Малоархангельск. А наш Малоархангельск основан в том же году, в каком переименовали Орлик.
– Ну, всё расписал. Аркадий, а чего бы тебе наукой не заняться?
– Наукой? Наукой тут не взять. Тут надо душой, по-честности. – Что, выходит наш гонец ещё и вокруг Байкала успел пробежаться?
– Или с кем-то крепко пообщался.
– Послушайте, если Селена – се луна, то и река Лена – просто Луна, как антипод от Ра, позитрон. Луна-то всегда была Луна? Её не переименовывали, как Солнце, под Солнце?
– Наоборот, солнце из Ра под луну.
– Как это?
– Луна в каком-то смысле была главнее Ра…
– Конечно, главнее: светит ночью, когда темно, а солнце – днём, когда и так светло…
– …мистичнее, что ли, или древние считали, что она старше, поэтому солнце назвали по луне – со-лунце, то есть младшая со старшей. А может быть, настоящее имя прятали от чертей? Наверное, это произошло тогда же, когда Волга из Ра превратилась в Итиль.
– Мне пацан мой как-то сказал, что Лена от Ленина, он, говорит, там в ссылке был, вот и назвали.
– А что, лет через десять так и в учебниках напишут, а ещё через сто лет никакой лингвист не опровергнет.
– Лена от слова лень. Я в словаре читал.
– Вот-вот, в словаре, а словарь немец какой-нибудь сочинил.
– Что тебе не нравится?
– Да то и не нравится, что ты рассуждаешь, как какой-нибудь электрик, а не физик. У них все электроны в проволоке одинаковые, нет ни первых, ни вторых, лишь бы ток был. А слова, они как электроны при бета-распаде – есть первичные, которые, если ты помнишь, из ядра, из сути, и есть вторичные, которые уже выбиваются первичными из оболочек какого-нибудь случайно оказавшегося рядом атома, и к сути, к рождающему ядру, отношения не имеют. И если ты, человек, говоришь словами, то должен отличать первичные от вторичных, иначе будет потерян смысл, будет один ток, которому всё равно куда течь – к обогревателю в детском садике или к взрывателю.
– Ну….
– Река Лена названа в честь Луны. Как была река Ра, текущая к солнцу, так была – и осталась – река Луна, Лена, текущая к луне. Лун, лон, лен – это мягкое гнездо женских первопонятий. Когда люди только-только научились давать имена, что они должны были обозначить в первую очередь? Склонность к безделью или женские прелести? Лоно. А во вторую, а по сути, в ту же первую – небесное светило, с которым цикл функционирования лона был синхронно связан. Как сейчас месячные и месяц (на небе), изначально – лоно между ног и лоно в небе. От этих лон, двух первичных электронов, уже все остальные лунки, как маленькие ямки и дырки, склоны, уклоны, как пути к этим лонам-лункам (с-к-лон), прислоны, как протоназвание соития…
– А слоны тоже от п…ы?
– Конечно: ходит медленно, как бы без дела слоняется, вот и слон. И «лениться», между прочим, тоже изначально значило не отлынивание от работы, а занятие сексом, просто в отличие от трудной работы в поле – «страдать», – приятная работа с мягким женским лоном-леном называлась «лениться». А потом уже, как альтернатива страданию, родилась плеяда вторичных слов-электронов со своей энергией и спином – лень, лентяй. И лодырь изначально от лада.
– Ё…рь по-нынешнему? Ходок. Африка, слышишь? Лентяй ты, лодырь.
– Аркадий, где ты всё это вычитал?
– Да где ж это вычитаешь? Не вычитал.
– Сам дошёл? Голова!
– Не сам. В воду смотрел.
– Как – в воду?
– Как в воду. И дурак, между прочим, это тоже ё…рь. Дрк… дырка, драть, дурак. Не случайно дурак всегда лентяй и лодырь, лежит себе на печи, но царевну имеет, и народ его любит, не то что попов.
– Опять попы виноваты?
– И попы тоже. А Ангара только в подтвержденье, что в своё время, время Ганга-ры, там жил народ одинаковых с нами души и силы. То есть – мы.
Как было не лакирнуть такой докладец спиртиком?
– Нет, объясните мне, что это за силы такие? – обглодав очередную густёрку, спросил Африка. – Грозный за Урал боялся соваться, Пётр, великий Пётр, как от страха, вообще вжался в самый краешек земли.
– Окно рубил!
– Только вот в какую сторону?
– Или запасный выход себе устраивал.
– Надо, надо туда сплавать!
– Сплаваем.
– Когда это всё было?
– Давно. Сначала восток, потом запад… Потом, в эпоху Ра, освоили Египет, там ведь всё на этом названии солнца держалось, потом была Итиль, и тут уж мы очередной раз в Европе порядок наводили. Аттила – это же никто иной, как человек с Итили, волгарь по-нынешнему.
– Виночерпий! – Николаич сиял. – Налей-ка лиофилу наградную… по одним речкам весь мир расшифровал! Нет, дай я ему сам налью!
– А потом уж и эпоха Волги, вплоть до наших дней, понятное время.
– Понятное? По-моему, самое непонятное.
– Чего тебе непонятно?
– Всё! А особенно самое последнее, именно наше. Кто мы? Где мы?
– Мне для начала скажите, с кем всё-таки была Куликовская битва, и кто такой Чингисхан? Не пришёл ли он, как тот хозяин, разобраться с европейскими мирмиками? Русский – на старую русскую родину, навести кое-какой порядок, поучить зарвавшихся обеспамятевших князьков, шпану степную, да погонять метлой зарвавшуюся немчуру и шляхту, разных фрягов и прочую папскую сволочь?
– Похоже, что именно так. И похоже, в 1772 году снова пошёл Фредерику урезонить, да уж не тот расклад был, что-то с Сибирью произошло. Сам на крыло не встал, послал орлёнка, а тот не осилил. И началось… вернее – кончилось.
К наградной Аркадьевской присоединилась вся команда.