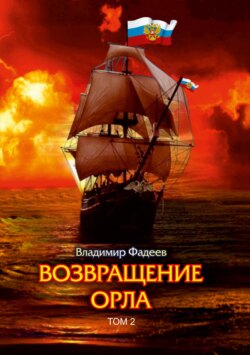Читать книгу Возвращение Орла. Том 2 - Владимир Алексеевич Фадеев - Страница 15
16 мая 1988 года, понедельник
Рукопись. Часть вторая, глава шестая
ОглавлениеТолько, надо сказать, у хороших есть одна малоприятная особенность… они очень любят… гм… пугать не пугать, а так – притворяться чёрными…
Е. Л. Чудинова, «Держатель знака»
Так бывает после бурного обсуждения – вдруг всем хочется помолчать. Отойти. В том, первом, пусть и тоже переносном смысле, значении этого слова: отдалиться от предмета разговора или спора, попробовать взглянуть на него с расстояния, на которое удастся отойти, или с места, откуда может быть виднее.
Семён взял Катину тетрадку, ещё половина была не дочитана.
– Давай уж вслух, чтоб потом не пересказывать, – сказал подсевший к нему Аркадий.
Глава шестая. Полкан. 1789 год
То, что он ценил в себе, как присущие только ему качества, что отличало его от всех других, вдруг, в одночасье, представилось уродством, излишеством, какой-то кляксой, наростом на простом естестве, в котором всё это его особенное, смешно и коряво выступающее из целого, давно и в совершенном виде существует в этом ладном целом. Стало стыдно недавней гордости. И смешно. Как он когда-то похвалялся умением терпеть холод! А оказалось это умение глупостью, нужно его не терпеть, а принять, и холод из неудобства превратится во благо. Гордился, малец, способностью от утра до утра выдюживать с веслом на челне, а как они тогда со стариками, после Слова, гребли до Старых Печёр четверо суток подряд, а силы только прибавлялось! Откуда в Слове сила? Сила в земле, Слово же открывает, разрешает взять её. Слово – ключик. Правильное слово, не всуе сказанное, а с огня считанное, по земле ношенное, с годами не остывшее. Как оно дорого и могуче, правильное, да только суметь и сметь сказать его не всякому даётся.
Давно было, а пустая эта гордыня от непонимания силы истинной помнилась. Не заметил, как с тех пор перестал даже мысленно произносить слово «я», увидев вдруг, какое оно, это его «я», смешное и маленькое, как оно мешало ему увидеть в себе всю утробу мира; грубая оболочка, «я» не давало ему стать тем, кем он был по божьей задумке – всем: рекой и звездой, вчерашней грозой и послезавтрашним ветром. Ничего через неё, эту оболочку, было не увидеть. «Я» мешало, словно он, безымянный, невесомый и невидимый, растворившийся во всех и во всём, идёт-летит к блистающей цели, а некая тень, ошибка света в кипящих чернильных разводах, стоит на пути, распахнув липкие лапы, и норовит не пустить, цепляя за любую о себе самом думку. «Я» должно было умереть, всё, что носило эти жалкие особенности, делающие невозможным всеобщее, должно было исчезнуть.
И он умер.
И земля стала как книга – о бывшем, о сущем, о ещё не бывшем. Несчётно слов вещих, но тяжелы они, не все поднять, а какое осилишь, то слово станет Словом, земля откликнется ему и силу даст, и по Слову исполнит. В земле сила, но не по всей земле силы ровно. Везде на струне звук, да не везде лад. Велики гусли земли! Отцы-праотцы, деды-прадеды много знали песен, много ладных мест нам открыли и отметили. Кто и ныне знает, тот с лада не собьётся, кто не помнит – тому только шум. А нового лада не отыскать, затаилась земля.
Кто столпы ставил – ветер стачивал, земля глотала, кто курганы сыпал – заносило песками, зарастало лесами. Наши прадеды метили Словом, именем, от земли же взятым. Где горы были – называли горы, где реки – реки в одно имя крестили, клятвы клали – ни один язык с тех пор над именем был не волен, а кто и переволит, переиначит – погибнет, отберёт земля силу, а земля заберёт – у неба не выпросишь.
А кто от лада к ладу ногами пройдёт с добром и памятью, услышит земную музыку и саму землю увидит – и бывшую, и сущую, и ещё не бывшую, на то откроется ему особое око, и с каждым новым ладом оно будет зорче, а увиденное яснее, и в земную глубину, и в глубину отражённую, небесную. Не увидеть неба, не вглядевшись в землю. Пустословые, отворачивают крестом от матери, доверчивые, теряют пути и опору. Не увидеть неба, не вглядевшись в матушку-землю, глаза в глаза, око в око. До страды, до настоящего служения, без устали и страха пройти должно от лада к ладу, от ока к оку земному, они названы, они ещё видны и охраняемы – и древними, назвавшими, и нынешними, смотрящими и видящими, играющими, не дающими умолкнуть великим гуслям, питающим нас силой..
– Редактора на него нет, – вздохнул Семён, – одними причастиями уморит: щим, щим, щим, щим…
– Видно, не до литературы.
Когда прошло восемь из десяти лет обета, он, пребывая в один из мартовских дней в молитве, увидел в пустынной своей землянке двух ангелов, возвестивших о ниспосланном ему великом даре прорицания будущего. Возблагодарил Господа и ещё истовее стал стучаться лбом об пол: знал, что срок обета ещё не вышел, ангелы ангелами, а старческое благословение терять нельзя. Велика награда – прорицать, но знал, что должно открыться и нечто большее, о чём и дерзнуть помыслить до срока не смел. А пока упорствовал в молитве и исподволь испытывал на зуб время.
Начинал с того, что как будто несколько раз проживал одну и ту же минуту – минута уже минула, а он снова и снова плыл по ней. Потом стал пробовать проживать не прошедшую, а ещё не наступившую, будущую минуту. В отрочестве, на первой дедовской учёбе, это уже у него получалось, тогда, правда, всё давалось ему просто: сердце было чистенькое, душа лёгкая, а теперь, даже после ангелов, приходилось брать терпением и усердием, благо времени на усердие ему отмеряли. Сначала вновь открывшаяся способность его забавляла, дождь ли он угадывал к вечеру, весточку ли упреждал, гостю заранее лучку покрошить в тюрю на постном масле… но очень быстро забава превратилась в очевидность: как просто глазами смотреть на дорогу впереди себя, идущего, отмечая повороты, препятствия, грязь или переползающего тропу ужа, так же просто другим оком до мелочей видеть бегущие впереди тебя минуты, уже наполненные событиями, бедами и радостями, только ещё собирающимися в этих грядущих минутах осуществиться… Постепенно, по мере всё более отчаянного погружения в молитву, минуты удлинялись, превращались в часы, в дни, месяцы. Смотреть далеко бывало непросто, потайное око уставало, как и обычные глаза, от долгого вглядывания вдаль, поэтому без нужды его не мозолил; но случалось иногда особенное, восторженное прозрение, когда время становилось настолько ясным и прозрачным, чисто сентябрьский день, в обе стороны различимы были даже мелкие блохи на обоих горизонтах, и за горизонтами прошлое как бы смыкалось с будущим и, как таковое, оно, время, исчезало, и всё, всё, что когда-либо было и будет, происходило в сию секунду, только выбери, что бы ты хотел рассмотреть.
И тогда становилось ему страшно. Не столько потому, что неделю после прозревания безвременья лежал пустой и бессильный (покойник живее); и не потому, что за неделю до этого нападали бесы – не иначе чуяли приближение ясного мига и, дармоеды, слеподыры, чужим оком норовили заглянуть в ещё не наступившее, чтобы уже наперёд расставить в нём свои рогатки: искушали, блазнили, стращали и грозились; а потому, что в следующий после всеохватности миг, светлый и до пылинки понятный, мир выворачивался изнанкой, и открывалась вдруг на его месте чёрная ледяная бездна – человеческого не хватало её одолеть; наверное, думал он, от неё и убегают в смерть самоубийцы, человеческая смерть – любая! – добрее и понятней, теплее одного лишь прикосновения к жуткой прорве. Даже чертей, недавних храбрецов, не видно было по её стылым окраям, они, как и весь тварный мир, жались с этой стороны, и виделись уже, серые, на фоне абсолютной черноты, чуть ли не роднёй – мерзкой и проклятой, но сотворённой и сущей.
Он знал имя этой бездне. Называлась она – мир без Бога… И возникала она – он понимал это! – как равновесная плата за всего лишь мгновенное пребывание в мире самого Бога, в мире, где есть всё, и не по жалкой человечьей временной толике-очереди, а сразу, мгновенно.
Но время, сладкое, родное, чудное время возвращалось, проходило и лечило. И хоть наступала за этим мгновением неделя пустоты и бессилия, но что такое человеческая пустота в сравнении с безбожной!
К вожделенному открытию неожиданно подвели именно бесы… Бес. А кто такой бес? Ущербно сотворённая тварь, – рассуждал он, – не способная, в отличие от человека, творить сама, но провидящая человеков-творцов (и люди ведь не все творящие!), нападающая на них и всеми правдами и, в основном, конечно, неправдами пытающаяся если не завладеть, то хотя бы оседлать, использовать творящую человеческую душу. Пока он пребывал в заботах чисто мирских, один-два, от силы три мелкорогатых пробиралось в келью и канючили частичку творящей силы, которая могла перепасть им даже после малого отказа от человеческого образа, от любой толики вернувшегося бы «я». Эти убирались несолоно, но, безсовестные, как на службу, являлись вновь и вновь – а вдруг? Стоило же ему начать заглядывать в окошко будущего – появлялись бесы иные, посерьёзней, с замшелыми рогами, эти как будто ничего и не клянчили, не опускались и до угроз, а упрямо пытались объяснить, что там, в завтрашнем дне, они необходимы и ему самому, и вообще всем людям, в конце концов – даже Сотворившему всё и вся (и в том числе их), и поэтому «давай-ка этим твоим оком вместе посмотрим туда, и мы от тебя отстанем. Нам же там тоже жить-быть, а тебе ли не знать, каково нам приходится? Покажи другой день, мы в нём себе норку приготовим и, в случае чего, и тебе подсобим».
Эти от простого знамения даже не вздрагивали, только долгая, истовая молитва выдавливала их в косячные щели.
А когда уж была обещана минута прозренья, до неё за неделю слетались все – и первые мелкорогие, и мохнорогие вторые, и ещё третьи, в образах почти человечьих, и этим многажды опасней и лише. Пытал их мысленно о пославшем. «Нас послал к тебе тот, кто и тебя в сие место послал», – отвечали они. Скреплялся, но бесы, чуя поживу, вгрызались всяко: и кололи страхами, и прельщали, и рушились матицами, и травили ядными насмехами, и ужимали утробной болью, и не час, не два, не день, а день за днём, день за днём… Не вставал с колен, взывал к Господу, а Он, терпеливый сам, и его терпение испытывал: лишь к исходу седьмицы подавал тихую весть, но зато, как только отзывался, только произносил первое своё Слово, во мгновенье ока бысть вси бесы невидимы, ужасошася и бежаша…
Вси да не вси… Оставался один из человековидных, тот, что терпеливо дожидался истечения обетного срока, чтобы искушать не мыслью только, а и человечьей речью.
И минули последние два года немоты…
– Как… ты остался?
– Заговорил, наконец…
– Ведь велел же он вам ужасошася и бежаша… Почему не убоялся?
Бес неожиданно задумался, какое-то усталое небрежение затуманило ему глаза, отчего стали они чисто лошадиные – большие, грустные, с размытым зрачком, словно спрашивающие: «Что, опять ездить на мне будете?», и даже чувство промелькнуло, что не бес к нему, а он к бесу без приглашения явился. А тот вздохнул – словно, решая какую-то важную для себя задачу, получил нежеланный ответ, с которым приходилось теперь мириться и действовать согласно ему же, нежеланному.
– Мне чего бояться? – выговорил, наконец, бес, и дальше затараторил уже галопом. – Это вам пристало бояться, у вас страх божий – душу, доверенную вам, потерять, а у нашего брата души нет, за что ж бояться?
– Изыди!
– Тпру, тпру… Ишь ты, каков. Он велел… Он и мне Отец.
– Так… что ты такое?
– Даже так: не кто, а что? Тогда такой и ответ: я ровно обратное тому, что ты обо мне думаешь. Когда спускаюсь к тебе ангелом, то бишь надуваю тебя самым наинаглейшим способом, я есть самый настоящий чёрт, ибо имеет место абсолютная образцовая ложь, родовое наше клеймо; а вот когда я честно, заметь – честно! – демонстрирую свою бесовскую сущность, то в этот момент я настоящий ангел, ибо что же такое ангел, как не сущая правда? Так что давай без этих «изыди!», ты ведь, в конце концов, не актёр из сумароковского театра… серьезным делом собрался заняться, вот и давай по-серьёзному все обсудим – ты со мной поделишься своими планами, я тебе подскажу, как их оживить. Ну что, к делу?
– Погоди, погоди… помутилось. Так это ты два года назад являлся с благой вестью о даровании мне способности прорицать будущее и сообщать избранным, что им предстоит?
– Это когда ты плакал от умиления и благодарил Бога за услышанные твои молитвы? Я, кто же ещё…
– Но их… ангелов было двое.
– Для верности. Если нужно добавить эффекта, я и целой делегацией могу заявиться. Хочешь, посижу с тобой втроём? или впятером? Человек слаб и наивен, для него есть разница – один лицемер ему елея капнет или хором станут петь осанну, один бес искушать будет или целая свора накинется. Тяжело создать, размножить просто. А эффект – да, эффект больше не от самого образа, от количества копий. Но это не сейчас, я ведь не пугать тебя собрался, я по делу. Долго ведь ждал – цени.
– Конечно, по делу, по делу… но как же… когда я не пойму – кто ты всё-таки?
– Я бы обсуждать это сейчас не брался. Как тебе сподручней, так и считай.
– Что ты меня путаешь?
– Ну, давай я прицеплю крылышки, пинетки на свои конские копыта натяну – легче будет? Мне ведь несложно, только лучше по-честному. Знаешь, позирую сейчас одному немчишке для поэмы, так он сразу придумал, как меня определить – длинновато, но в общем верно: часть той силы… ну и так далее. Не слышал? Ах да… Немцы умницы, души у них против нашей… вашей, конечно, скуповато, зато умом бог не обидел, этим они, кстати, нам родня куда большая, чем вы.
– Так, стало быть, ты всё-таки – бес?
– Опять он за своё! Для кого-то – бес, для кого-то наоборот. Вот принёс тебе великий дар прорицания – для тебя ангел, а для царей, которых ты с его, дара этого, помощью извести хочешь, – бес.
– Какой же ты ангел? – у тебя копыто!
– Копыто, – крякнул бес. – По стерне-то сподручней на копытах. Ты, наверное, когда бежал до дальней Волги, о таких-то мечтал? – И расхохотался (заржал). – Вообще-то, стоило бы тебе рассказать об этом походе, всё ли ты понял? Признайся, даже после Пути посещали тебя вопросы: и на кой ляд? А ума сопоставить не нажил.
– Ты умный – скажи.
– Отправили тебя… познакомить с самым древним человеком, который теперь – земля. Подружить, больше – породнить, хоть вы и так родня.
– А вы, бесы? Или вы всё-таки…
– Пойми, садовая голова, дело не во мне, а в тебе: кого ты во мне видишь, тот я и есть.
– Во мне… а где я? На свету или в тени?
– Когда родиться-то угадал, вспомни? День был равен ночи, редкое для земли время, когда свет с тьмою в согласии, когда одному нет власти над другим, и потому они словно одной заботой полнятся. Так что равно будешь окружён и агнцами, и демонами… Да не горюй ты… не знаешь разве, что все нынешние бесы – бывшие боги? Даже хуже: не просто бывшие, а преданные вами, людьми, боги. Понятно, обстоятельства! Один умник даже открытым текстом сказал, что все языческие боги – бесы. Ну, и довольно об этом, а то ведь легко тебе выведу, что истинные бесы – это вы, предающие своих богов люди, и, поверь, крыть тебе будет нечем. Или хочешь ещё о добре и зле порассуждать? За последнюю соломинку зацепиться? Даже не тщись – разочарую, да так, что эта соломинка, как бревно, тебя раздавит. Был бы ты хоть какой-никакой немец, я бы ещё попытался тебе объяснить, как этот чёрно-белый слоёный пирог добра и зла испечён. Тебе же, дураку, Бог специально дал такую редкую вещицу, которая без всяких рассуждений указывает, где добро, а где зло. Мне вот не дал, видишь, рассуждать приходится, а тебе-то зачем? Счастливчик, баловень господень, загляни в душу – там ответ уже исчислен с такой точностью, до которой всяким Гей-Люссакам за биллион лет не дойти. И за дело давай, за дело, мне ещё к немцу успеть, для поэмки позировать. Правильно ли я тебя понял, что прозревать будущее тебе мало: вдруг там да не окажется того, чего нужно? Детей забавлять таким даром?
– Подслушивал!
– Вот тебе раз… Какое же подслушивал, когда сам ко мне обращался?
– Я ко Господу обращался!
– А Он мне перепоручил.
– Не лги!
– И ответить поручил, и я тебе ангельским голосом пропел, что буду сказывать тебе вся тайная и безвестная, и что будет тебе и что будет всему миру; и прочая таковая многая и множество! Но ведь какое дело: мало знать, что будет, так? Та-ак!
– Тебе-то что за дело? И кто ты, в конце концов? Какое имя тебе?
– Ты спрашиваешь у меня? Мне весело, когда об имени спрашивают люди, те самые люди, которые эти имена и дают и, главное, их же меняют, причём меняют быстрее, чем мы успеваем к их именам привыкнуть… как говорится, был волхв – стал волк. Может, сначала в себе разберись – кто ты? Впрочем, если бы не алексинский ваш дворовый пёс, мог бы называть меня Полканом…
– Полкан…Что за слово, Аркадий?
– Пол-коня.
– Кентавр, если по-русски?
– По-русски… по-русски как раз Полкан. А кентавр буквально – «бьющий быков», то есть пастух-наездник, ковбой. Дикие греки ездить верхом не умели, а когда видели пастухов-скифов на конях, думали, что это полубоги, уж если даже быки от них шарахаются.
– Почему ж мы имечко не слямзили? Красиво же – кентавр.
– Слямзили, только позже.
– Как это?
– Полкана ещё называли Китоврасом. Послушай слово: «Китоврас».
– Ну и?..
– Вот ты глухня! Это же «кентаврас».
– А почему позже? Слямзили кентавраса и дали ему понятное русское имя – «полуконь».
– Нет, все средиземноморские легенды – это переделанные под южный климат наши северные сказки, даром что ли все боги и герои – гиперборейцы?
– И Полкан?
– Особенно Полкан, он у них пьяница, развратник, вояка-драчун и… учитель – классический набор для чужака с севера. Сами-то они ничего не умели, а кентавры их подтягивали по всем предметам. Хирон воспитал самого Аполлона, Ясону про руны рассказал…
– Про руно?
– Это одно и то же, только бестолковые греки не понимали ни черта, думали, что это шкура золотая… или зашифровали, признаться не хотели, что знания у каких-то скифов стырили… Орфея петь учил, был отчимом Ахилла, медицину им поставил, слышал про Асклепия? Тоже полканский студент.
– Но скифы-то про себя, всадников, не думали, что они полубоги! Наверное, всё-таки Полкан – это вернувшийся к ним кентавр, о самих себе из чужих уст сказка.
– Может быть, и так… давай дальше.
…не самый главный в небесех, но службу знаю… Я у Орла-отца перо в крыле, могу на небеса отнести, могу божий свет закрыть.
– Если ты и в правду у Орла-отца… почему же явился в таком виде?
– Опять он за своё… Придёт время, явлюсь к тебе архимандритом, а чтоб ты не сомневался, что это я, имя твоё фамильное возьму.
– Когда?
– Не спеши… в другой жизни, в следующей, пока с бесом побеседуй, а то больно доброта из тебя свищет, того и гляди не осилишь… Так что остынь-ка. Не было бы мне дела, подумай, ждал бы десять лет, пока ты заговорить соизволишь, и правда твоя силу возьмёт, а сила – правду? Не перебивай теперь, и без того непросто вместить в твою голову невмещаемое. – Бес вздохнул, явно затрудняясь, с чего начать трудное объяснение: не сказку же ему рассказать про Емелю со щукой, конечно, просто и понятно, но ведь не сработает. – Скажи, подумал ты, что коли открывает Он тебе будущее, то оно именно таковое уже и существует в мире, Он только вроде как занавесочку отодвигает, посмотри, мол, милый… Подумал?
– Что ж тут думать, коли так и есть?
– Что ж тут думать… – передразнил Полкан. – Думать никогда не мешает. А если б подумал, то понял бы, что никакого будущего у Него за занавеской нет.
– Как нет? А что же я вижу?
– Вот и подумай, не всё же на душу полагаться.
– Подскажи.
– Я уж подсказал: нет за занавеской одного готового будущего.
– А-а! Будущее у него не одно? Не одно, а несколько, может, и целый куст… так и это невелика тайна.
– Невелика… Как же тогда ты видишь из всего куста только ту одну ветку, которая и зацветёт? Такой ты везунок? А Бог твой сидит в сторонке и умильно хлопает тебе в ладоши: угадал, угадал! Ха-ха-ха.
– А как же?
– Ты ж говоришь, что думать легко, подумай, как?
– Хм… Остаётся одно: Он по молитве моей великодушно…
– Бр-р-р-р… не поминай…
– … по молитве моей овеществляет тот из своих вариантов, на который взор мой обратился.
– Холоднее… в смысле – правильней, уже лучше, лучше, но от истины всё равно в семи верстах.
– Не так?
– Так, да не так.
– Уволь тогда, я и без этого сверх меры дерзнул.
– То есть признаёшь границу свою, человек? Признаёшь, что даже понять не можешь, как Его мир устроен, какими нитками он к одному дню другой пришивает и из какого сундука лоскутки достаёт?
– Да не брызгай словами, говори, если есть что говорить.
– Есть, есть… Но уж уговор: когда открою – заднюю не давать, потому как мысли твои знаю, покажу, как им сбыться, но ты сам не испугайся, не повороти.
– Эх, из огня да в полымя…
– Что такое?
– Да из одного уговора в другой.
– Решай.
– Ладно, ладно – уговор.
– Тайна простая. Нет у Батюшки нашего за занавеской никакого куста, там вообще ничего нет. Ни-че-го!..
– А как же пророки?
– Пророки? Да, пророков в человеческой истории было достаточно, но, как отметил один знаменитый астроном и астролог, в основном это просто меньшая часть азартных игроков в «угадай»: кому повезло угадать, тот и пророк, а уж кому повезло угадать дважды или того больше, – великий пророк.
– А библейские…
– Тп-ру-у… Пророки библейские – даже не игроки, они благие проповедники, обличали пороки и предсказывали кары за них, чему не мудрено было сбываться, воспитатели, пугачи… что ж, была в них израильскому народу нужда, твой Илья – из них первый. Да и их всех задним числом раввины сочинили, или не знал?
– Лжёшь, собака!
– Не собака, это ваш дворовый Полкан собака, и не лгу, но ты успокойся… хорошо сочинённое получше настоящего былого бывает, и не так редко, даже редко наоборот… но не об этом. Так вот, были, конечно, и настоящие ведуны, которым удавалось подняться на горку и подсмотреть с неё, что за дорога впереди. Лучше видели слепцы, им не мешала картинка уже явленного мира, сегодняшнего, видимого глазами. Ты же помнишь своих борятских друзей-шаманов? Обязательно сначала нажраться мухоморов, чтоб зрачки вывернулись наизнанку, а потом пророчить. Или, если не слеп по природе и мухоморам не пора, – в темницу, в пещеру, в келью, чтоб не рябил в глазах сей час, ведь когда рябит, глубины не разглядеть. Потому самый знаменитый грек-ясновидец Тиресий – слепец, а уродица Шиптон жила в пещере. Примерам таким несть числа, пусть их подсматривают… Не они нам с тобой интересны. А вот был такой маг и пророк Мерлин…
– Это который жил навстречу, из будущего в прошлое?
– Глупости, к «встречным» он отношения не имеет… ну, не больше, чем все мы, «встречные» мгновенны и безымянны, с ними сталкивается всякий, дурные или счастливые предчувствия, вспыхивающие иногда в тебе, это перехлёст с ними, живущими навстречу. Но не Мерлин. Мерлин был пророком-работником, он не подглядывал будущее, он его устраивал. Не он один, был у них ещё боян Мирдин и поп Амброзий, без устали они выделывали небесную шкуру Британии под господство в христианском мире и великую славу… Н-да…
– Из чего?
– А вот из этого самого «ничего». Что оно такое, это «ничего», я тебе, хоть ты и не вместишь, открою.
– Забавно.
– Ещё как. Ничего – это и есть всё. Не одно будущее за занавеской, не два, не сто, не много, и не очень-очень много. Там их, – чёрт поднял вдруг покривевший и обросший белёсыми волосами палец к потолку, – там их бесконечно много. Там абсолютно всё, что только может прийти в голову. В том, конечно, числе, – опять сделал многозначительную паузу, – и то, которое пришло в твою голову. То есть ничего ты не угадывал, ничего Он тебе не подсовывал… Не Он тебе, а ты Ему… вот и вся тайна. Ты изъял из нети, а Он только отвердил.
– А что ж ты сам из нети не изымаешь тебе нужное?
– Издеваешься, брат… Мне творить нечем, образ создать – душа нужна. Да не простая, а к земле и небесам одинаково притёртая, вроде твоей, видели мы, сколько молельщиков по всей Цепи за неё хлопочут, иначе зачем было за тридевять земель и ходить.
– Да вы тоже столько их нахапетили!
– Это так. Но – чужие души-то. Иногда, знаешь, лучше совсем без души городить, чем с чужою. Слаще, спору нет, так сладко, как вам… – не буду, не буду… но на том ведь и край.
– Так что ж ты тут? Зачем? Какой твой интерес в моём образе?
Полкан вздохнул: ну, не объяснить ему за один раз устройство мира и его часть работы по поддержанию этого устройства, ещё двинется с глузду, бедолага, легче доигрывать беса.
– Есть интерес. Много крови видишь на краешке его, миллионы душ вразлёт, славная охота. Нам ведь тоже пища нужна.
– А если я задумаю без крови?
– Задумает он… Нет, брат, ничего ты безкровного не задумаешь, потому что крепче меня знаешь: лучше пусть течёт, чем гниёт – это во-первых. Но главное-то – во-вторых!.. То есть, оно бы должно быть, во-первых, но уж ладно, оговорился. Так вот, во-вторых, оттуда, – опять ткнул волосатым пальцем в потолок, – оттуда, из этого самого переполненного кипящего ничего задуманным, то есть от одного ума рождённым, ни единой козявочки не вытащишь. Сколько тебе повторять: одним умом небо не отворяется, если б умом было можно, то уж, поверь, ни один бы бесёнок, ни один самый запропащий бес тебя бы не беспокоил, зачем ты нам – нам, которые по части ума не чета вам, доки. Как говорит мой немчишка, «где нет нутра, там не поможешь потом».
– Да уж вижу.
– Вот и славно! То есть, только ты начнёшь задумывать, из мыслей своих, из гнилых этих щепок отмычечку сооружать, ты не только нам, ты и Ему станешь без надобности.
– Погоди, погоди, но ты сам же говорил, что там всего бессчётно, и всё, что бы в голову не пришло, там есть.
– Ну, есть, – поморщился бес, – есть, но что с того? Какие же вы, люди, тяжёлые, когда думать начинаете! Есть, да нельзя съесть. Не подходит к небесам головной ключик, сколько раз тебе повторять, не под-хо-дит! От ума ключик как будто только нарисованный. Рассмешить Бога своего захотели? И это не получится, не умеет Он смеяться, да и мне уже не до смеха. Царскую династию укоротить – не порчу на соседа навести. Одно дело – малый человек да под низким небом, этот перед любым сглазом без защиты, ровно голый червячок под сапогом, цыганка косо взглянет – и на другой день его сухотка возьмёт; а над царями трое небес, и все с замками, и на каждом небе войско: на первом простые молельщики, истые и корыстные, одни других твёрже; на втором свои родовые ангелы, берегини и стерегини; рать чужих бесов – у тех свой интерес, но злее их по всему занебью не сыскать; духи-приживалы, кормятся с любого царского слова, будь то хвала и хула, без разницы; демоны, те, что от горькой слезы жиреют: мужик от беспросветья запил, дети с голоду помирают, мать от детей продали на общую беду – всё им кормёжка, не замай кормильца! А пуще всех бесов – сам народ, он ведь в царя-батюшку верит! Верит, что тот богопомазан, оттого ведь только так и есть, самому-то Богу что царь, что псарь, у всех по одной душе, и с этим светлым войском, тебе, будь ты хоть трижды пресветел, ратиться будет трудней всего – народ в такой дали беды не видит, а от близких бед на царя-батюшку только и уповает….
– Чего он вдруг на русских царей ополчился? – вступился Африка, тоже заслушавшийся от нечего делать.
– Да с того, что не считал их за русских. Скажи, с какой стати Александр Первый Романов русский, если родился от двух чистокровных немцев, родившихся от четырёх чистокровных немцев? Это имплантация в русское тело не жучка, а целого семейства жуков! У Александра от русского Романова 1/16 часть, да ещё сомнительно, что она от настоящего русского…
– Александр Второй, значит, только на 1/32 русский?
– А Александр третий – на 1/64, а уж у Николая русскость вообще гемеопатическая! И как же тут не быть рабству? Русь, конечно, их переваривала, но не без последствий же! Капля камень точит, а тут не капля, зубило. Так что Авель ещё тот хват! Ну, скорее всего не сам, грамотно его подвели к этому старики, по цепочке-Цепи да на дело! Вот и тетрадочка об этом. Какой бы славный царь Александр Третий не был, а кухаркиных детей в школу не пустил… Вот оселок – отношение к народу.
– И к языку! – вставил своё Аркадий. – Что только твои Романовы с ним не творили: сплошное иноязычье – немецкое, французское… они, эти ленгвичи, по отношению к русскому младшие, дочерние, ни при каком раскладе не имеющие приоритета для пользования, паразиты, словно белые омелы, не способные самостоятельно черпать ресурсы из почв, прорастают на ветвях большого дерева и, в конце концов, его губят. Прорастают на ветвях, наиболее удалённых от почвы, – на элите. А эти уроды даже похваляются своей раковой красотой. Дерево и гибнет. Свои цари разве бы допустили?
– Так что мы бы с тобой Женечка, не только при Гитлере посудомоями работали бы, но и при благословенном Александре Третьем в школу бы не пошли, не то что в энстетуд. И все, кто против Сталина, только этого и хотят, чтоб ты им служил, как завещали великие Пётр и Павел… Вот и Полкан дальше объясняет, как для тебя:
– На третьем – планетные боги.
– Что ж они, боги, сами не вмешаются?
– Вот, вмешиваемся, – в упор посмотрел на монашка, так что тот выпустил испарину. – До третьего неба у всех инструмент один – человек.
– Да что моё малое усилие стоит?
– Не один ты трудишься, не возгорждайся. Так что молись, крепни… из кельи в мир и не думай, в мире тебя теперь разорвёт, лопнешь, что пузырь. Узилище – славное для великих дел место, особенно тёмное, из тёмного узилища любой малый светляк различим, и звёзды среди бела дня. Иных мудрецов из темницы за уши не вытащить было, а тех, которые не понимают, хороший правитель должен бы силой в узилища упаковывать… для пользы дела.
– Как же странники, калики?
– Бедолаги, пустозоры… хотя если кто из ник поднялся до понимания, что весь явленый мир – узилище, тогда что ж…
– А ведь я ходил!
– То – урок! Без начального урока и в узилище толку не будет. Да и с ним непросто. Ты думаешь, разрешили тебе устраивать бегущие впереди события по своей воле, и этого достанет, чтобы мир переволить? Да ты знаешь, сколько таких мудриков в ближние небеса свои прожекты отправляют? Какая каша там варится из молитв, просьб и просто сильных желаний? А свершается срединное – почти ничьё, лишь случайно с каким-то чаяньем согласное, и счастливчика, буде он своё чаянье огласил, сразу вознесут в городские пророки, а на другой, уже неудачный раз, забросают камнями. В этой каше ты утонешь со своим уменьем, а уменье твоё и правда редкое, важное, иначе б не нарекли… – бес осёкся. – Тебя, видишь, по Золотой Цепи чуть не с почётом отправили, с уведомлением всех держателей… готовили… а придёт время, когда нужных людей чуть не силком на этот путь ставить придётся… но – устроится. Ведь если не наглотаться земным духом в этих местах, откуда и сила. Потому и открыли, что воевать нам не в ближних небесах, а в следующих, где битва идёт настоящая. Туда простые, одинокие молитвы не долетают, на тех небесах малюют только собранные в мощные кисти прозрения. Поповская кисть, царская, боярская, там же латинская и лютеранская.
– А народная?
– Народная… Да, была бы самая широкая кисточка, да беда: всё она по волоскам растреплена, каждый волосок, говорил же тебе, только на первом небе и оставит малую, никому не заметную риску. Ныне их собирают в снопы да веники те же попы да цари, метут ими в поповские да царские закрома. У народа своей нет… пока – попробовал вот наш воронёнок связать, да её на земле уже разметали. Народные пока в царских да поповских – боги их руками кисти держат.
– Боги… или бесы?
– Эк ты запутанный какой! Если Чернобог, по-твоему, просто бес – зови бесом, но не прогадай умалением. Беса ты вон знамением гонишь, а Чернобога знамением даже не рассмешишь. Бесов попы в ваших головах наплодили, чтоб вы не то что леса за деревьями, чтоб и дерева за сучками не видели.
– Всегда ли так будет? Всегда царям и попам верх?
– Нет… но лучше ли будет?
– Как? Разве не того чаем?
– Придёт время, когда и цари с попами без надобности будут, сейчас-то твои бесы через них волят, а как только научатся не царями лишь понукать, а сразу народ сгребать, тогда может начаться настоящая потеха, сметут бесовским воем и держателей.
– Но зачем же держателей? Как же Земля-матушка?
Полкан грустно засмеялся:
– Земля… Тут уж четвёртого неба битва. Кто-то землю – и она сама в главную голову – сохранить тщится, а кто-то и полакомиться ею… больно вкусная да сытная.
– И на четвёртом небе битва?
– Ещё какая! Там земные боги с неземными ратятся. И (понимаешь уже!) не только за человеческое, за саму Землю дерутся. И у наших держателей, у Орла там главная вахта, раньше это была всех людей забота, но теперь они опустились ниже: решают своё, о Земле не думают, потому любая волна может им обернуться потопом, и камень с неба, и лёд полуночный, и сушь пустынная – всё им будет гибель.
– А выше?
– Выше, на пятом – боги солнечные, боги Белого пути, молочной дороги, на шестом – вселенские, на седьмом – сам Вседержитель.
– И что, на всех небесах – битва? А где же… рай?
– Это и есть рай. Он же – ад. Смотря за кого бьёшься. Твою картинку держатели рисовать помогут, четырьмя лучами, и шестью, и семью… не зря ты странствовал. Всего письма не написать никому, но красные буквы в нужных местах поставить по силам.
Он хотел задать еще один вопрос, но боялся. Боялся получить на него страшный ответ… Незаданность и неотвеченность тяжелили воздух.
– Спрашивай, спрашивай, чего уж.
– А Вседержитель, Б… – хотел добавить «Бог», но, чтоб не сбиться в небесах, не добавил, – Вседержитель за кого?
Похоже, вопрос и для Полкана был безответным, должно быть, он сам терзался им и доставал своих старших – впервые за всю беседу появилась на его лице тень сомнения. Но не на долго: словно что-то вспомнив, он шумно вдохнул и, вместо всей душой ожидаемого «за нас», выдохнул:
– За сильного.
– Всё у них в небесах. А на земле ничего не происходит, что ли?
– На земле дела сегодняшние. Здесь же речь о будущем. На земле что может произойти? Вася Пете в морду может дать, и всё. А завтра произойдёт то, что Петя после этого замыслит, и что ещё такого агрессивного придумает Вася. Вот этой кашей пете-васиных планов и полно ближнее небо, что-то осуществляется, что-то нет. На втором небе, видишь, дерутся уже эгрегоры, от исхода их драки зависит среднесрочная человеческая история, может быть, и до тысячи лет. Выше – уже планетарные энергии регулируют балансы планеты – магнитные поля, течения, подвижки материков, ледники, похолодания, моры, засухи… и отбиваются от равномасштабных им внешних угроз: экранируют солнечные вспышки, отводят метеориты, фильтруют космическую пыль на предмет смертоносных спор… И оказывается – с помощью держателей. Вот где их настоящая вахта! Разные уровни: с каким бы счётом попы у царей не выиграли, если держатели метеорит пропустят – кирдык и тем, и другим. Поэтому и убеждают странника, что делом надо заниматься.
– Как же они на такие верхотуры взбираются?
– Никуда они не взбираются, они отсюда работают, точно так же, как бактерии в твоей толстой кишке работают на твоё самочувствие прямо из жопы – куда ты без них?
– Почему именно в толстой?
– И в тонкой, и в желудке, и под языком… а может, и в мозгу, и в крови… Говорят же окские старики: наше дело река. А чьё-то – горы. Что за дело? Не склоки междусобойные, а регуляция в макроорганизме и оборона от всякого вирусного хлама.
– А выше?
– Энергетика солнечной системы, галактические дела, потом – вселенские, и на последнем, я так полагаю, открытом вовне небе – Закон. Бог.
Уже потом, оставшись с собой наедине, он пытался осмыслить это последнее слово, оно не находило места в его христианской душе, где главным и, казалось, вечным постулатом было слово другое. Он вдруг ощутил в груди такое великое сиротство, какое бывает только при живых, но отринувших тебя родителях. «Как!? – тысячный раз убивал он себя вопросом. – Он не за нас? Как же жить?». Ведь то, что Он не за нас, означало, что Он не с нами – и это рушило казавшееся неприкосновенным основание не просто его жизни, жизни его соотечественников и единоверцев, а основание самого мира, тысячелетиями стоявшего на этом камне: С НАМИ БОГ! И не за слабого – это тоже была опора тысячам и тысячам, да что там – миллионам и миллионам людей, белым, чёрным, жёлтым, красным… всем, кого придавил к праху земному насущный ветер, кого сломил, искорёжил, измолол неостановимый жернов юдоли: Он – заступник, Он всегда за слабого, Он за нас… Он с нами!
Да не морочит ли Полкан? Всё-таки бес. Не искушение ли, не очередная ли препона на его и без того заовраженном пути? Нет, на этот раз душа не пускала по этой лёгкой думке: бес – и дело с концом… не давала спрятаться от приоткрывшейся страшной и великой в своей простоте истины. В чём она – не ускользай, не прячься, откройся! Не в том ли, что за Бога мы принимали бьющегося за нас – воистину за нас, за нас слабых и несчастных! – Воина всего лишь с Третьего неба, который перед Вседержителем так же мал, слаб и беспомощен, как и мы перед ним, Воином. Но он – Воин, он бьётся, он не имеет права уйти с поля… сойти со своего неба битвы, стать слабым, он перед всеми защищаемыми им тремя небесами обязан быть сильным… потому что знает единственную в этом подлунном… тьфу, какое – подлунным?! – вселенском, больше – надвселенском, открытым за седьмым небом в бесконечность Мире Истину: Он – за сильного. Он за нас, Он за нас, но и мы должны быть за Него, а быть за Него – значит только одно: быть сильным. Обратным прельстили черти, утешительная ложь ведомой на заклание овцы: Он за тебя, за слабенькую, Он с тобой, несчастной… где тут твоя аорта?
Бог – за сильного! Быть с Богом – быть сильным. Быть слабым – предать Бога, быть недостойным даже взгляда Его в твою сторону…
– За сильного, – повторил ещё раз Полкан и будто бы стал ещё выше и шире, словно испугался, что кто-то из врагов сочтёт его малым, а значит, и слабым, – с этой колокольни… прости, Господи… тьфу, заговорился! Так мы и смотрим: способствует державности – Бог в помощь, вредит – пожалуйте на правёж. Хоть ты псарь, хоть ты царь. А правёж разный может быть. И инструменты для правежа тоже разные. На этот раз выбрали тебя. Подготовили – провели по Пути, дали потрогать Цепь золотую, подышать русскими небесами – теперь надежда есть, что не ошибёшься. Бить будешь больно, но по делу, с пониманием будущего, раньше срока не переломишь, дольше не потерпишь, не зря тебя по всей Цепи в круг держателей пускали. Держава – это не царский шарик с крестиком, запомни: держать – это наша работа на этой земле. Так что будущее не угадывать надо и подсматривать… ты ещё сон-траву под подушку положи… Будущее нужно делать, сработать, Гамаюн не поможет: Гамаюн, спору нет, знает всё, да не расскажет, а расскажет – не поймёшь. Я-то, если хочешь, могу и брюсовы книги Сивилл из Сухарёвой башни принести, прорицание воли богов и предсказание будущего, двенадцать тысяч листов полууставного письма – как? Могу и редкую liber vaticinatiinem достать, а толку? Могу и что-нибудь из ещё незнаемого людьми, по мелочи, что поторопило бы ваше движение вперёд, открыть-подсказать, но знаешь, впереди-то у вас пропасть, и сначала нужно мост наладить через неё, а потом уже объяснять, как устроены сапоги-скороходы. Лукавцы ныне мудрее, кипящая смола и раскалённые сковородки не их методы, они теперь умникам вашим подсказчики, прогрессоры, подсказывают, как вам быстрей до пропасти доскакать, расскажут из чего порох состоит, растолкуют какому-нибудь «гению», пока он молод и бестолков, как великая сила в пылинку запакована да как её распаковать… но тебе же этого не нужно? Я бы мог поторопить события и даже открыть тебе, как, не выходя из вот этой кельи, смастерить какую-нибудь смертоносную игрушку… одного-то царя за версту жизни лишить можно, а уж прославиться на века – пожалуйста. Как ты насчёт славы? Понятно… у нас, русских с этим плохо… в смысле – хорошо: откроешь нашему Левше какой-нибудь секрет, так он не в патентное бюро бежит, как все нормальные шведские немцы, а к соседу по даче – похвастаться, а уже сосед-швед и в бюро сбегает, и денег со славой заодно заработает. Эх, ты бы знал, сколько вам открытий чудных готовит, будь он неладен, просвещенья дух! Цари ещё наплачутся… но нам-то с тобой не гремучий студень нужен… Нам даже неинтересно знать, ни из каких зёрнышек прах земной слеплен, ни как звёзды по небу ходят. Нам сразу подай от этих небес вожжи, порулить. Так? Что ж, по-русски, по-русски… Да, просто подглядеть будущее любой травник после белены и любой грибник после тонкой поганки сможет, нам не подглядеть, нам направить его нужно. Помнишь ведь щурово: пророчествовать – не угадывать, а сотворять. И чтоб не задумываться, чтоб только душой… прости, Господи… тьфу ты, чёрт, запутался с тобой! Твоя работа главная, что и говорить, но без меня ей грош цена. Не на соседа порчу насылаешь – мировую оглоблю повернуть дерзнул, тут тишком не проедешь. Чтобы по-твоему случилось, чтобы тебя после первого же твоего престрашного прозрения не удавили в монастырском подвале, мне не меньше твоего поработать придётся. Кого обольстить, кого попугать, кого заблудить. До царей и лестное слово донести непросто, про бранное и думать нечего, а уж такое, которое их же и погубить должно, да чтоб они сами ещё за это слово перед Ним порадели – только с моей помощью. Нет, много я тебе отмерил, не такая твоя работа и главная – золотник в пуде, напророчить и дурак напророчит.
– Всего-то золотник в пуде?
– Ну, не в пуде – в лоте золотник, третья доля.
– А другие две трети?
– Это уже иная работа, – постучал по кости между отсутствующими рогами, – ума! Душой только напортишь, обязательно напортишь, с душой к этим двум третям близко подходить нельзя.
– Да что ж это за работа?
– Я уж говорил: второй золотник – уберечь тебя от ямы монастырской, ведь не думаешь же, что с таким процарским откровением тебя в палаты на смотрины пригласят? В яму, и то в лучшем случае, а в обычном – сразу к праотцам, сколько таких пророков колья задницами примеряли… о-ох, много! А последний золотник, третья, стало быть, доля, – ещё важнее первых двух: запустить твоей души работу на такие верхние круги, где она работой только и станет. Как до Бога высоко, так и до царя далеко. Без меня твоим писулям путь только до печки в келье настоятеля, и сколько ещё печек будет по дороге в Петербург! А царей облукавить, чтоб вняли? Пока в эти круги твою фантазию не всучишь, толку от неё – пшик.
– Так ты, выходит, за тем и явился…
– За тем, за тем… за тем Он нас, нелюбимых, и пестует: самим творить не даёт, но подельничать с вами, творцами, не мешает… Короче, давай, давай, бухайся на коленки да отключи свой котелок, – постучал жёсткими костяшками по шишковатому лбу, – и так он у тебя перегрелся уже, пригорят мозги… и про кровь, про кровь не забудь, я к тому далёкому часу ждать буду… где-нибудь, скажем, в Тамбове. Смотри – уговор.
Бес исчез – да и был ли он? – и началось трясение тела…
– Ну и накрутили… – вздохнул Семён, закладывая тетрадку черёмуховой веточкой. – Скажи, Николаич, с точки зрения физики, как это возможно – предсказывать будущее?
– Ну, во-первых, – поправил очки умник, – может иметь место простая экстраполяция событийного ряда: на коротких расстояниях она очень хорошо работает, но вероятность убывает обратно пропорционально расстоянию от исходного события.
– То есть?
– То есть: если ты утром в рабочий день пошёл за водкой, то не стоит труда стопроцентно предсказать, что к обеду ты будешь пьян; с меньшей вероятностью – вечерний синяк под глазом; ещё с меньшей – увольнение через месяц по 33-й статье; и уж тем более – смерть от цирроза через три года.
– Горшков вон уже пятнадцать со своим циррозом живёт, и ничего.
– Он рыбак, – объяснил феномен Горшкова Аркадий.
– Только это не физика, – возразил Семён, – тем более, что через триста лет твоя вероятность шмякнется в нуль, а мы имеем фактики… А может быть, они всё-таки подсматривают через время, и говорят всем, что там происходит? Может же быть кротовая нора не только в пространстве, но и во времени?
– Может, только с одной поправкой. Не подсматривать надо, а предвидеть. Забыл дедово? Подсмотреть можно только то, что есть, а чтобы вытянуть событие из нети, надо видеть.
– Увидеть то, чего нет? Это ж русская сказка: поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что!
– Именно! Смотреть на то, что уже есть, умения не надо. В неть заглянуть – вот фокус.
– Ты нам не про фокусы, ты научно объясни, как работает.
В этом месте крякнул Поручик: он, похоже, знал, как работает, но не знал, как объяснить.
– Научно? – переспросил Николаич и с интонацией «сами просили, я не хотел» замонотонил: – Будущее – это такая глобальная квантовая система, которая находится в суперпозиции нескольких состояний, и только после проведения измерения, в нашем случае – наблюдения, подсматривания, происходит так называемый коллапс волновой функции, и система фиксируется уже только в одном из состояний.
– О-о! Залепите мне уши… – застонал Виночерпий и начал откручивать фляжку.
– А в каком из? От личности наблюдателя это зависит?
– Больше, пожалуй, и не от чего.
– То есть если предсказатель чёрт, – начал рассуждать Семён, – жди ада, если ангел…
– …то бесплатная водка, – мечтательно заключил Аркадий.
– Это как раз, если чёрт!
– Нет, ангел!
– Чёрт!
– Сам ты чёрт! Если в магазине брать, всего пять бутылок – и аванса как не бывало. Как жить? Если бесплатная, то ангел!
– Так передохнем же, какой ангел!?
– Когда будет много и бесплатной, до беспамятства пить никто не будет. Вон, бесплатного воздуха целое небо – ты же не надышиваешься до смерти!
– Ну, ты, Аркадий, и сказанул…
– А чего он: суперпозиция, коллапс, – перевёл Аркадий стрелки на Николаича, – пусть по-русски скажет.
– Вам, рыбакам, не угодишь: то по-научному, то по-русски.
– Нельзя разве на русском языке по-научному? – не унимался лиофилолог. – Как Сергей Иванович вчера.
– Сущь, вещь? – рассмеялся Николаич.
– Именно! – воскликнул Аркадий и приготовил ребро ладони для стучания в грудь. – Загляни туда – не знаю куда, увидь то – не знаю что. Никакие это не сказки, это нам, дуракам, русским языком объяснили про твой коллапс волновой функции, про всю вашу… нашу квантовую физику. И – сущь! И – вещь! Сущи, то есть вариантов будущего, – несметно, вещью же, реальным событием, становится лишь то из сущи, что удостоилось наблюдателя – увидения. Вот и вся твоя суперпозиция. И вопрос только один: как в эту безмерную сущь заглянуть, чтоб оявить не какую-нибудь инфузорию, а рыбу настоящую.
– Тьфу!
– А я на что? – выдвинулся вперёд Виночерпий.
Первого, как уж повелось, градус зацепил Николаича.
– Да-а… Мир устроен… уму непостижимо, как просто! – начал он дирижировать тощей рукой. – И не при чём тут скорость света. Мир мгновенен, мы мгновенны. Ты знаешь, Винч, что есть поля, которым плевать на квадрат расстояния?
– Знаю. Например, капустное.
– Отсюда вытекает принцип универсальной суперпозиции: мир – един, мы, ты, я, любой задрипанный фотон – и есть целиком мир.
– И никакой иерархии?
– Я же говорю: универсальной, а не абсолютной. Это абсолютная суперпозиция – Ничто, изотропность, всего лишь стопроцентный потенциал, а универсальная – это не просто наличие, но торжество иерархий. И прямых, и обратных.
– Обратных – это как? – пытался сообразить Семён.
– Как… «Ты проживёшь без королей? – Солдат сказал: – Изволь! – А ты без армии своей? – Ну, нет! – сказал король». Вот так, поэт.