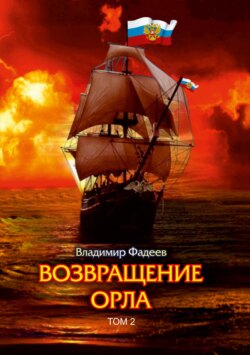Читать книгу Возвращение Орла. Том 2 - Владимир Алексеевич Фадеев - Страница 20
16 мая 1988 года, понедельник
Омут
ОглавлениеНаше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету.
Л. Толстой, «Война и мир»
Для бездны не внове, что вхожи в неё пустяки:
без них бы был мелок её умозрительный омут.
Б. Ахмадулина
Как ведро воды в костёр вылил: все предыдущие рассуждения показались глупыми, даже водка, великий разбавитель глупости, не спасла от неловкости.
– Ладно, Сень, – пожалел друга Аркадий, – пока до заката время есть, пойдём-ка твою лужу процедим, может, там и вправду сомяра застрял. А то прошлое, позапрошлое…
Сматывал бредень и выговаривал Семёну:
– Удивляюсь я вам, умным: все один цвет ищете, каким бы время выбелить… или выкраснить, или вычернить… Я вот в Мещере, из окна бабкиного дома, наблюдал за дальним, за протокой Пры, некосным лугом. Вчера белый, снег сойдёт – уже чёрный. Через неделю зазеленеет – диво! Через две недели уж он жёлтый от одуванчиков, такой жёлтый – глаза режет, ещё две недели – и он опять белый, но уже другой, живой белизной. Отцвёл одуванчик – поднимается клеверок и мажет луг красно-коричневым, потом и он осядет, а поверх его вытянутся синие люпины… и так да нового снега цветовая чехарда. Кто на лугу главный? Какого он цвета? Время само себя рисует, никто больше. Русское поле это вам не английский газон… Лужа точно мелкая?
– Пацаны с корзинами трусов не мочили, правда, они по краям, а бурунило в серединке.
– Разберёмся. Груз бы потяжелее в мотню.
– Да вон трак. Слава богу, ты его к другому краю сети не привязал. Хорошо по дну протащит.
– Только пойдём по дороге, я через чащобу с ним не полезу.
Взобрались на высокий берег, к дороге. Аркадий оглянулся, словно кого-то хотел разглядеть на косе со стороны.
– Ты же чувствуешь, что кто-то на косе есть? Не постоянно… а когда вдруг исчезает, становится тоскливо, одиноко, хоть в омут. Чувствуешь?
– Кто? Бог?
– Да ну тебя! Но и не человек… или человек, которого не видно… сущность какая-то… тебе не кажется, что нас здесь не семь, а восемь?
– Нас и так восемь. Своего Михал Васильича не считаешь?
– Тогда девять.
– Может, это тот старик, что вчера на берегу появлялся? Ты его раньше видел? А как Сергей Иванович дёрнулся, заметил?
– Не, тот исчез и исчез, а этот… даже – это, если исчезает, то как будто свет выключают.
– Глючишь.
– А когда оно возвращается, всё наполняется смыслом… жутковатым, но смыслом.
– Знаю! Это Орля! Возвращение Орля.
– Кто такой?
– У Мопассана есть об этом… я же тебе рассказывал, «Орля» называется. Вспомни! Как раз – невидимая, неслышимая, в общем, даже и безвредная тварюга, правда, по ночам она вставала герою коленями на грудь, душила и высасывала изо рта жизнь.
– Ничего себе – безвредная!
– Это точно он, Орля. Он пил у него ночью воду и молоко.
– Так это, может быть, он и самогонку у нас раньше трескал? Надо тебе про него Виночерпию рассказать, а то ведь он чуть не чокнулся тогда от недостачи.
– Нет, вино Орля у Мопассана не трогал.
– У Мопассана не трогал, теперь запил. Наш Орёл тоже по месяцу, бывает, не трогает, а другой месяц за уши не оттащишь.
– Знаешь, откуда этот Орля появился? С трёхмачтового парусника, тот плыл по Сене аж из самой Бразилии, Мопассан на него засмотрелся, больно уж корабль ему понравился, белоснежный, немыслимо чистый, весь сверкающий. А на корабле, оказывается, плыл этот Орля – в Бразилии он свёл с ума целую деревню и возвращался в Руан, зацепился за восхищённый взгляд и перебрался по нему, как по лучу, в Мопассана.
– По взгляду, как по лучу?
– Ну.
– Да не ну… я всё думал, из чего английское look выросло? Вот – из луча! Взгляд – луч, а дальше подпорки: лукавый взгляд, глаза от лука слезятся… букет, гнездо.
– Как ты их угадываешь? – который раз удивлялся Семён.
– А как ты сочиняешь? Я вот сколько раз пытался, дальше розы-морозы не шло, и это в лучшем случае, а так всё палка-селёдка. Как это – слова, слова… и вдруг стих. Что это – стих?
– Стих – это акт узнавания мира. «Маска, я тебя знаю!». Проникновение в суть мира. Просто словами и размышлизмами волшебная дверь, за которой суть мира, тайна мира, не открывается. Ты вот как-то добираешься до сути слова, но суть слова ещё не суть мира. Невозможно же, скажем, рудой, опилками открыть замок, даже просто металлом слов невозможно, хоть этот металл будет даже благородным, нужно сделать из металла ключ (из слов – стихи), который только к этому замку и подходит.
– Это понятно, но как это случается? Неужели никогда не анализировал – как?
– Сам не понимаю. Как будто это и не я. Анализировать пробуешь, пока ещё не перешёл в состояние поэта, и поэтому ничего не понимаешь, как анализировать то, чего нет? А когда начинается, уже не до анализа: ничего кроме уже не существует, да тебе и не нужно ничего ни видеть, ни понимать: чудо свершается, а как оно совершается – неважно…
– Как поклёвка?
– Я тоже сколько раз хотел момент поймать: как это клюёт? Не могу, и всё тут. Пока не клюёт, не о чем и говорить, а как только клюнет – тумблерок щёлкает, и ты уже не ты, ты сам уже рыба, ты уже не здесь, а где-то…
– Именно: уже не здесь.
– В детстве я ещё каждый вечер пробовал уследить, как это я засыпаю… вот тоже тайна: пока не спишь – нечего и наблюдать, а когда уснул – нечем наблюдать.
– А ведь и умирать, наверное, так же.
– Так же… только круче.
– Выходит, когда спим, пишем стихи и рыбачим, мы вроде как смерть репетируем? Выходит, что смерть – это такой сон, когда клюёт и пишутся стихи? Забавно.
Сорвал с края тропы целый пук странной мяты и спрятал в него лицо… никакая это не мята.
– Может, бросить пить? Совсем-совсем!
– Брось. Думаешь, сразу шедевры начнёшь создавать?
– Не хочу я создавать шедевры, мне дорог сам процесс писания, такой перманентный эксперимент по преодолению энтропии в отдельно взятой душе, по пониманию некой двойственности этого понятия – душа. Из холодного я делаю тёплое, а если повезёт – горячее. Откуда тепло? С той стороны души. Душа – трансформатор, преобразователь той энергии в эту. И той энергии там полно. А наша физика, мы с тобой, изучаем один только из этих двух сообщающихся сосудов и блеем: ах, энтропия… Посочиняй-ка стихи – поймёшь откуда что берётся!.. Нет, пожалуй, бросать нельзя.
– Пить или писать?
– Иногда кажется, что это одно и то же.
– Ну уж… от пьянства – позор, от стихов – слава.
– Слава – это всё детство. Мне достаточно того, что в процессе рождения стихотворения происходит «накачка» души. Мы ведь только сосуды, фляги и фляжки, правда, из добротного пищевого алюминия и нержавейки, и, очень может быть, даже были когда-то полными… а может, и нет, может быть, нас только что сварили, спаяли и скоро используют по назначению: наполнят.
– Самогоном?
– А ты хотел бы птичьим молоком?
– Я бы хотел водой – не родниковой, а речной или из пруда, чтоб там дафнии жили и рыбки…
– Можно и из пруда. Только сначала нас почистят, продрают с песочком от старой вони, продезинфицируют…
– Слушай, а может вся эта пьянка и есть чистка?.. В масштабе народа?
– Пьянка? Нет… Вот стихи – точно чистка.
– Наговоришь… Вообще, что за зуд такой – стихи писать?
– Божий атавизм: творить. Ум, честь и совесть – это необходимое, а достаточное – быть художником. Художник умнее умного, честнее честного, праведнее совестливого, как это нехудожникам ни прискорбно… И в рай первым не праведник попадёт, не раскаявшийся грешник, а негодяй-художник, потому что в нём Бога больше, он творить умеет… а то, что он при этом подлец или дурак, – это вторично, третично и четверично, Богу не чистоплюи-умники нужны, а помощники, со-творцы.
– А я думаю, что настоящий художник должен быть умён и праведен.
– Заповеди и кодекс? Бездарные попы и коммунисты насочиняли… никому он ничего не должен! Умён, праведен!.. Художник через два эти курса экстерном… Может быть умён и праведен, а может и наплевать. Так-то. Единственное, что он должен, – быть творцом, как, впрочем, и любой человек, а набор качеств, которые позволяют ему им быть, и будут называться умом и праведностью, а если твои ум и праведность с его не совпадают – выброси их на помойку.
– Согласен, с умом и праведностью это я хватил. Только честен.
– Вот! Кстати, про Мопассана: я вчера именно такой парусник на Оке и видел.
– Может, и такой. Только наш Орля другой.
– Другой, а питается всё равно от чужой жизни.
– Значит, человек. Человек, думаешь, хлебом питается? Это плоть. А сам человек – только чужой жизнью. Без другой жизни человек не жилец. Потому и говорят, что не хлебом единым… А может, это Лёха так влияет? Или Сергей Иванович?
– Скажи ещё: духи директора НИИПа.
– Дух, не дух… но, по-любому, – ВИМП.
– Вамп?
– Вимп, физик! Николаича на вас, рыбаков, нет… weakly interacting massive particles – слабовзаимодействующая массивная частица. Гипотетическая частица тёмной материи. Увидеть сложно, но можно почувствовать: как и всё, обладающее массой, они создают вокруг себя сильные поля. Нейтралино, например, превышает массу протона в сотню раз. Представляешь – на этом Белом Острове живут невидимые люди, каждый из которых по энергетике в сотню раз сильнее каждого из нас. И это если мы себя посчитаем протонами, а поскольку мы всего-то электронные вши, то в тысячи и тысячи.
– Но взаимодействуют-то слабо!
– Это с нами, амёбами, они слабо взаимодействуют… у них, похоже, другие заботы.
– Какие?
– Вопрос! – Семён почесал затылок. – Наверное, серьёзные. – Хотел было высказать свои мысли насчёт оживления Орликова (наверняка их рук дело), не стал. – У кого-то должны быть серьёзные заботы, не всем же капусту сажать. Пока мы водку всем народом трескаем, грешим, что называется, бесстыдно-беспробудно, забив на всё вот такую болтяру, кто-то же страну держит! И всегда держал! Ведь, казалось, всё: кранты монгольские, поляки-шведы-турки, бонапарт на бонапарте и адольфами погоняют, не считая своих благодетелей от Петра Алексеевича до Мишки Меченого, всё ведь сливают, гады! Народ безмолвствует… а страна – стоит! Кто держит?.. А может, и какие-то сторонние силы. Я вот слышал: души египетских жрецов воплощаются в русских.
– Это только в том случае, если эти египетские жрецы были русскими. Изначально.
– Теперь скажи, что Египет основала наша Баба Яга, и правильное его название – Ягипет.
Аркадий посмотрел на Семёна с восхищением:
– Ну, ты голова, по-честности!
– Да пошёл ты к чёрту! Уж такой ты русофил, противно даже.
Аркадий захохотал.
– Ну и что ты хохочешь?
– Почему «фил»? Я просто русский.
– А русофилы не русские?
– Неизвестно. Если и русские, то снаружи, а я – изнутри: мне себя любить, как конфетку, ни к чему, тем более что я и не конфетка… – вздохнул. – А вот тем, что тебе это противно, ты сам и доказываешь великость свою русскую, саму русскость. Немцу небось противно бы не было, он за любую историческую былку, в смысле небылку, небылицу, цепляется, а ты… мы – наоборот: дай принизиться, не то что чужого нам не надо, и наше заберите!
– А у тебя наоборот: всё – русское. Присмотреться же, так всё самое-самое прерусское – нерусское. Самовар – китайский, баня – финская, мат – и тот татарский.
– Во-первых, татары – это русские, только они татары, а во-вторых, какой же мат нерусский?
– Конечно, если у тебя татары – русские, то и мат тогда русский.
– Ты… по-э-эт, а ни черта не слышишь.
– Что?
– Совать – суй, а пихать… – что?
– Пхуй?
– Я же говорю: голова. Светит – свет даёт, свет-да, в смысле «звезда», а писает… правильно.
– А также твоя любимая орда, к ней елда, манда, еда, вода и прочая езда туда-сюда. Ты, Аркадий, всё-таки уникум: у нормальных людей обычно словарного запаса не хватает, отсюда и необходимость в универсальных русских заменителях, а у тебя он лишний, тебе бы мыслей немного.
– Не завидуй… Можешь ты стать настоящим поэтом, можешь, по-честности, хоть и, дурак, сам себе не веришь… Все на свете слова – русские.
– И английские?
– Особенно английские.
– И китайские – русские?
– Наверное, и китайские… надо послушать. Индийские – точно.
– «Раджа» – очень уж русское слово… – по привычке подначил Семён.
– Конечно, русское! Знаешь, как пишется «Радж»? Рааж. Дж – это уже англосакские сопли. Ра-а-ж. Слышишь? Знаешь ты такое русское слово?
– Раж?
– Раж, раж…
– Ещё бы – раж. Ку-раж, ражий детина. Вошёл в раж.
– То есть в силу, власть, точнее – в ярость. Это сейчас слово ярость приобрело лишний негатив, а совсем недавно, каких-то лет пятьсот назад, оно было больше синонимом слова доблесть и всем причитающимся за эту доблесть благам. Ярость, ярый. Ярый муж – бо-ярый муж. Это ярый муж. Бо-ярин.
– То есть индийский раджа – это русский боярин? Синонимы?
– Именно. Синонимы – два русских слова: ражий и ярый. Когда слова уносили в Индию, на слове раж был только позитив: «ра» – солнце, «ж» – огонь, чем не обозначение превосходства?!. У оставшихся был выбор, произошла дополнительная акцентация, и они воспользовались вторым звучанием, но в обоих случаях смысл и происхождение едино – «ра», «яр» – солнце, раджи и бояре – солнечные люди, светоносные, наделённые избыточной энергией и, как следствие, властью… А когда они медитируют, что подвывают, слышал?
– О-о-ум, – простонал Семён.
– Правильно, а что это означает?
– Ом? Электрическое сопротивление.
– У чертей – сопротивление, у правильных – просветление. А по-русски, по-русски? О-ум!
– Неужели … ум?
– Именно! Тот самый резонатор, который ихние йоги своими мантрами и стремятся настроить. Настроят – могут дышать, могут не дышать, простыни мокрые в стужу телом сушить… внушают себе, что им жарко, и энергия пошла.
– Йогу и внушать ничего не надо, там круглый год сорок градусов жары, а стужа – двадцать пять тепла, въйогивай не хочу… А у нас их нет не потому, что слабо, а потому, что некогда медитировать: дров, как минимум, надо на зиму заготовить, не до медитаций, хлебушек вырастить – банан-то на голову здесь не упадёт. Да если сравнивать ихнего йога и нашего юродивого, то тепличный йог нашему снегоходному боголюбу в подмётки не сгодится. В плюс тридцать и дурак посидит помедитирует, а пусть этот йог в минус тридцать босиком побегает, посидит в сугробе – небось быстро у него яйца зазвенят.
Такой уж у них был стиль общения. На самом деле они как бы завидовали друг другу. Семён – тому, что, легко жонглируя рифмами, не мог так, как чтец всего одной книги рыбачина Аркадий, увидеть в самих словах некий первосмысл, отчего всё написанное иногда казалось ему поверхностным; а Аркадий, видевший иное отдельное слово насквозь, – тому, что не мог из этих, до буковки понятных ему слов строить смысловые дома – стихи. Ну, не дано… И хоть каждый считал свою способность более ценной, оба понимали, что она, способность, – только половинка какого-то целого, настоящего… Поэтому и тянулись друг другу, дружили крепче, чем все остальные в команде, показушно доставая друг друга по мелочам.
– Если ты такой языкознатец, скажи: при зарождении языка что первично – звук или смысл?
– Смысл звука.
– А смысл откуда?
– Оттуда, – ткнул Аркадий в небо пальцем.
– Почему же языки, которые, как ты говоришь, произошли от одного, такие до умопомрачения разные? Ну, английский, убедил, недалеко ещё отпочковался, а иные? Они, дети, тоже должны быть на мать похожи.
– Языки не рождаются друг от друга, а образуются в результате распада праязыка. Не биология, хотя элементы секса присутствуют, а физика. Распад. Не раскол, а именно распад, как двести тридцать пятый. Он ведь не раскалывается на два или три точно таких по свойствам, но меньших кусочка, на два или три маленьких уранёнка, а распадается на совершено иные материалы – свинец, железо, гелий… Скажи, гелий похож на уран? То-то, а ведь появился из его чрева! Так и языки. Тут одним звуковым сходством не обойдёшься.
– Откуда же взялся сам этот твой праязык?
– Откуда и уран. Из звёзд.
Поэт-Семён понимал, что не написавший ни одного стихотворения, не нарисовавший ни одной картинки Аркадий был, конечно, художник больший, чем кто бы то ни было из его окружения; ибо художник не тот, кто мастерски владеет пером или кистью, а кто сохранил в себе способность смотреть на мир детскими глазами, то есть видеть его сущность; а эта способность, дающаяся детям от Бога, быстро утрачивается почти всеми малыми под атаками обстоятельств, всяческих идеологий и правильных воспитателей и учителей… Не умеющий ни рифмовать, ни рисовать, он оставался художником непроявленным, внутренним, все произведения которого предназначались для одного зрителя, живущего внутри его самого, а там, внутри, вопросы признания и, боже упаси, славы, были попросту неуместны… а главная награда – не нарушаемая привязанность к детству, его вернейшим впечатлениям, а через них уже – в детство рода, в архаику предшествующих племён и языков. Поэтому ли Семёну самый младшенький их, Арканя, казался иногда самым… даже не старшим, а прямо-таки древним?
Ветерок был с Оки, тёплый влажный воздух, пройдя по очереди через прибрежный черёмуховый фильтр и через омытые самогонной кровью внутренние фибры, становился таким пьяняще-вкусным, что хотелось, ей-богу, закричать от счастья.
– Как же хорошо летом! – как кузнечный мех вздымал Семён грудь и не мог надышаться.
– А я зиму люблю.
– Почему?
– Зимой Орион видно.
– ?
– Мрига-ширшу.
– ?
– Голову антилопы. Символизирует первочеловека Праджапати, которого боги по ошибке принесли в жертву, так как обещанный козёл задерживался…
– Козёл или конь?
– Тут козёл, а вообще-то Орёл прав: главная жертва – белый конь.
– Откуда же такая дикость пошла?
– Это очень древние дела. Когда день длился 260 суток вместе с зорями, чтобы змей не глотал этот белый день, его пытались задобрить самым дорогим из имевшегося в племени белым. Не бери, змей, белый день, возьми самое дорогое, что у нас есть из белого: белого коня.
– Ну и что? Один раз пожертвовали – не помогает, всё равно ночь, зачем каждый год по коню изводить?
– Может, они ночью эту жертву приносили, чтоб день наступил. И каждый раз наступал. И все были убеждены, что выкупили его, белый божий день, за белого коня. А когда все убеждены, то так на самом деле и происходит.
– Ты это всё в своей «Махабхарате» вычитал?
Аркадий посмотрел на друга с сожалением:
– Есть, Сеня, знания, которые получаешь из книг и разговоров с разными людьми, а есть и другие, которые из тебя самого, через тебя от кого-то всезнающего. В книге только малая подсказка, если своего знания не откроешь – и от книги проку ноль, а то и хуже. Вот что нынче плохо: книги читать учат, а самих себя – нет.
– И в воду смотреть не учат, – поддел Семён.
– И в воду…
– Давно хотел спросить: когда в воду свою смотришь, ты там реально что-то видишь или просто просветление в мозгу наступает?
– Реально… наступает просветление.
– Как, как?
– Как… поклёвка.
– Всё у тебя, как поклёвка.
– Говорю же: тысячу раз хочу сам этот момент зафиксировать: не клевало, не клевало, и вдруг клюнуло, а как – уже не думаешь, не до этого, клюёт же!
– А я ведь видел в Бору белого коня… Слушай, а что за день такой длинный – в 260 суток?
– Это вместе с зорями. Полярный – ну, когда наши предки жили за полярным кругом, в межледниковье. Он, конечно, не назывался «полярный», он назывался день Бога или Божий день. Мы же говорим «божий день», так это в языке ещё с тех времён.
– Ого!.. Точно, видел я белого коня на Бору… А что ж мы выпить с собой так мало взяли?
– Обижаешь… – Аркадий показал оттопыренный плоской фляжкой карман.
– Вот это хорошая книжка. Любишь ты читать…
– Я? – Аркадий посмотрел на Семёна с презрением. – Я читаю только Сабанеева и сказки: «Махабхарату» и наши народные.
– Правильно! Вся остальная эта литература – херня.
– О! Кого я слушаю?
– Слушай, слушай! И особенно великая русская.
Аркадий смотрел удивлённо: Семён против писателей? Ладно бы против советских, их сейчас только ленивый с грязью не мешает, но против великих русских?
– Что смотришь? Если бы с Гитлером воевали чеховские нытики, то ты бы сейчас при самом благоприятном раскладе…
– Помню, помню – в гаштете толчки чистил.
– У тебя у самого-то нет чувства, что в войне воевал какой-то другой народ? Что тут два разных народа: один в великой литературе – неизвестно от чего спасающиеся идиоты плюшкины в футляре и на диване, и совершенно другой – в великой войне… и сам понимаешь, какой из них настоящий. Эти великие писали про себя, с понтом переодевались в зипун, вставали перед зеркалом и давай по себе, несчастному, сопле-слёзы лить… Поэтому и живём в королевстве кривых зеркал, где всё наоборот. Почему в школе ни один разотличник не любит литературу, а особенно русскую литературу, великую русскую? Да потому, что детей не обманешь. – И заговорил дальше, как бы проверяя себя, словами из сна: – Вся наша «великая» не о нашем народе, как будто не о нас. Один славный параноик сочинил свою драную «шинель», другой авторитетный припадочный… – осёкся, покосился на Аркадия, но тот не повёл бровью, – сказал, что мы все из неё вышли. Всё: клетка-книжка захлопнулась! Акакий там хозяин, Муромцу места нет, пошла работа на понижение – маленькие, жалкие, пьяные самодурчики… Разве мы такие?
Они остановились, посмотрели друг на друга и какое-то время шли молча…
– Это мы стали такими, это она – в том числе и она! – нас такими сделала! – с новой горячностью начал Семён. – Если сто лет талдычить человеку, что он ничтожество и раб, пожалуй, он таким и сделается.
– Тысячу.
– Что – тысячу?
– Тысячу лет. Ровно тысячу лет, год в год, месяц в месяц, чуть ли не день в день! Когда, кстати, попы праздновать собираются? Африку надо спросить.
– Откуда ему знать? Темнота – главная ипостась светоносного христианского учения.
– По-твоему выходит – Гоголь виноват?
– И Гоголь. Знаешь его кредо: «…нельзя иначе устремить общество или даже всё поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Вот и впряглись эту настоящую мерзость смаковать. Не слишком ли увлеклись, уважаемые? Так увлеклись сами и увлекли доверчивый русский люд, что кроме мерзости теперь даже и на улице ничего не услышишь. Все души – мёртвые. Не перемертвил ли, Николай Васильевич? Не пересолил ли, Антон Павлович? Ну, и остальные иже с ними, нытики. Чем надо гордиться – мы это гнобим, что надо гнобить – мы на руках носим. Стрелять не надо, мы себя сами зарывать начали, вот она, беда… Хотя Гоголь в конце жизни, похоже, понял, что перемертвил: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся…»
– А сам-то что пишешь? У тебя ведь тоже, не люди, а… один – таракан, другой и того хуже – гриб. Сам-то почему Муромца не славишь?
– Где его сейчас найдёшь… – вяло ответил Семён, уже сообразив, что Гоголю «и иже с ним» сто лет назад Муромцев искать было не в пример сложней.
– Выходит, что ты ещё больший соплежуй.
Семён от такого неожиданного поворота сник совсем.
– Да не грусти, – толкнул его в плечо Аркадий, – это даже здорово, что Акакий. Значит, можем себе позволить. Умаляем – значит, есть что умалять.
– Не умалимся ли до черты?
– Как почуем, что до черты, увидишь: сразу начнём себя возвеличивать.
– То есть, если начнётся героика, значит, отступать некуда – позади Москва, только вперёд?
– Ну. Это ж наш способ быть: умалиться-возвеличиться. Как говорит Николаич – переменный ток, Тесла. Вблизи кажется непродуктивно, а в историческом масштабе – сказка!
– Знаю, сказки ты любишь… Какие, кстати, твои любимые?
– О спящей царевне и семи богатырях.
– А наоборот сказки нет? О царевне и семи спящих богатырях.
– Это про нас с твоей Катькой, что ли? Подходит… как частное решение. Но правильное, главное – о спящей царевне и семи богатырях.
– Спящих.
– Да, пока спящих. Сначала нам самим надо проснуться, но потом за главное дело, за царевну! Из-за чего сказку и придумывали, миллионы раз пересказывали детям, отрокам, взрослым – искать и будить спящую царевну.
– Да кто она?
– Ты что? Родина. Россия. Русь! Украли, спрятали, усыпили.
– А хрустальный гроб – шестая часть земли?
– Все настоящие русские народные сказки – только об этом.
– Зашифрованное послание?
– Какое зашифрованное? Прямое обращение, а мы вот не понимаем: смотрим в упор и не видим, привыкли, притерпелись.
– Чего не видим?
– Очевидного! – Аркадий сорвал с обочины цветок: – На вот, посмотри, что видишь?
– Цветочек.
– Всмотрись, какой же это цветочек? Это же…
У себя в Мещере, в короткоштанном детстве, Аркадий на цветочках чуть не свихнулся, его даже дразнили «девчонкой», но он до сих пор уверен, что цветы, если дарить, то – женщинам, а понимать их – дело мужское; причём совсем не каждый может разглядеть суть цветка, увидеть в нём, если хотите, пространственно-временную модель всего мироздания, да и не модель даже, а само это мироздание, разве что в сильно-сильно уменьшенном варианте (никакая математика даже приблизиться к такому подобию не сможет, ибо ещё цвет и запах), а увидев – захлебнуться откровением этого мира… Душа стремительно уносилась в неведомые выси, и было бы это состояние абсолютным счастьем, если бы не начинало от непомерного счастливого напряжения или от невозможности проникнуть за последнюю шторку тайны что-то коротить в голове. Так вот однажды, когда на клумбе около булочной (мать зашла за хлебом) на Первомайской долго смотрел на цветок обычной календулы, ноготка, и вдруг всё-всё про него понял: понял, что, конечно же, это был не цветок, это была Великая Подсказка, и младенческая душа захлебнулась огромным, непонимаемым восторгом… Аркадий впервые потерял сознание. Так начались припадки. За несравненно сладким мигом следовала не сравнимая ни с чем страшная боль…
К несчастью – или к счастью, – с детства мало что изменилось, и он по-доброму смеялся над всякими искателями и открывателями структуры миров и всяких прочих пространств и эонов; над математиками, изобретающими многомерные миры – все они по какой-то непонятной слепоте не видели очевидного: Бог являл им всем эти структуры повсеместно, любой василёк или полевая гвоздичка были этой структурой и мирами. Надо было только преодолеть пригляделость… но и не сойти с ума.
Так стало получаться и «в воду смотреть». Настрой, полшага не доходя до опасной черты… туда, под волну и рябь, в живую серединку, где вода вдруг превращается в объёмный калейдоскоп, несколько мгновений он разноцветен и невнятен, потом цвет успокаивается и появляются – в воде или голове? – вполне различимые картинки… Не цветок, конечно, через который он попадал в «иномирье» сразу, но блики, блики…
Случалось ему и слышать правильное имя вещи (звук, рождённый составляющими эту вещь силами), оно редко совпадало с принятым ныне, но когда совпадало, тотчас опять открывалась потайная занавесочка в совершенно иной, настоящий мир; он упруго обдавал волной живого счастья, секунду, две – и занавесочка задёргивалась, оставляя от него только необъяснимый привкус сердечного восторга, только привкус… и это хорошо, потому что когда удавалось задержаться за занавесочкой больше двух секунд, счастья становилось невместимо много, и голова могла взрываться изнутри такой же огромной, как и отрывающийся мир, болью, сквозь которую он иногда слышал, как кричали в панике его детские товарищи и товарки по двору: «Тётя Аня, тётя Аня! Валерка без памяти остался!!!»
Пока не пошёл в школу, гостил под Клепиками с Пасхи до Покрова, а один год, когда случилось несчастье с отцом, даже и зимовал в деревне, в младших классах приезжал к бабуле на всё лето, в старших получалось на два, потом на месяц, в институте удавалось вырваться на неделю-другую, успевал только порыбачить да поплутать по лесу, надышаться.
Бабка говорила, что в городе ему нельзя, город его «не выпустит», «загубит», а у неё он будет здоров. «Он ведь лесовичок!» – «Все мы были лесовичками, а вот живём…» – отвечала мать. «Все не были…»
Внуков у неё было пятеро, но только в Валерке она чуяла истинное родство, хотя дети все – абсолютные язычники. Где мы, городские ортодоксы, видим лишь красоту, язычник сразу узнаёт стоящее за ней божество. Так взрослый человек с замыленным взглядом и пообвыкшейся в вещном мире понурой душой упирается в красоту, как в стену: ну, вздохнёт, ахнет, воскликнет что-нибудь банальное, сравнит с подобным, уже виденным-перевиденным – дальше ему хода нет… а для ребёнка любой цветочек – образ создавшего этот цветочек, и его восторг поэтому абсолютно религиозен. Взрослые могут рассуждать о Боге, ощупывать его потерявшими первосмысл словами, дети – видеть Его и быть в Нём. (Ох, как неслучаен этот призыв: будьте как дети!)
С первым пушком на губах припадки участились – зимой и особенно к весне, когда совсем сякли в пацаньем организме бабкины заделы, мать и впрямь подумывала: не оставить ли его в деревне, на спасительных молоке, кулаге и травах, но – как? А школа? А после школы? Семья? Нет, нет, нет. Рассуждала-спорила с матерью: «Что он тут будет делать?» – «Жить» – «Как тут жить?» – «Как всегда жили» – «Теперь – не всегда, как всегда, теперь не проживёшь… Повзрослеет, глядишь и отпустит» – «Дай-то Бог». Не отпустило. Правда, был период в старших классах, когда болезнь вроде бы сошла на нет, но неожиданная (почему же неожиданная?) новая напасть вытащила за собой и старую.
Первый раз допьяна напился Аркадий (тогда ещё Валерка) на свои семнадцать лет, 12 мая 1974 года. Именно допьяна. Понемногу – бидон пива или бутылку портвейна на троих-пятерых одноклассников – пили и до того: вот, в тот же год, только тремя днями раньше, на День Победы с Юркой (нынешним Семёном) и Колькой Расторгуевым взяли с собой на крышу, откуда смотрели салют в Москве (на горизонте маленькие разноцветные букеты вспыхивали сразу в десятке мест, до них было не больше двадцати километров), бутылку «Кавказа», выпили, на каждый залп орали «Ура!» вместе со всем городом, собравшимся у верхнеэтажных окон, смотрящих на Москву, на чердаках, на не срытых ещё взгорках Белых песков – с них тоже салют было видно… И было хорошо. А день рождения 12 мая пришёлся на воскресенье, праздник ещё длился, семнадцать лет, весна, всё цветёт, то есть и так уже хорошо, но теперь знали, как может стать лучше. В складчину, где Валеркина доля, как именинника, была большей, купили пять «агдамов»… А утром, когда он, закрывшись в туалете и удерживаясь от рыка, чтобы не услышала мать, блевал, мозговая искра и пробила на корпус. Дверь ломали… Мать умоляла к вину не больше прикасаться, и в институтские годы мольбы эти ещё как-то удерживали, но в НИИПе город взял-таки своё. Правда, всего-то через год инженер-механик Анатолий Михайлович Фёдоров его научил похмеляться, и утренние спазмы опять немного отступили, только заплатить за это пришлось привычкой пить сначала не меньше двух-трёх дней кряду, а потом, как почти всё сверхумное население физического подземелья, и каждый день.
После каждого припадка он не помнил, как это с ним только что случилось, но вдруг вспоминал, что случилось не с ним и не только что, а чёрт-те когда…
Признаться, способность видеть через цветок стала сякнуть с наступлением взрослости, но вот после двух седьмиц этой взрослости как будто начала опять возвращаться. Должно быть, души и тела живут в противоположных направлениях. Когда тело растёт – душа уменьшается, теряя вложенные в неё Богом детскую открытость и всезнайство и уступая место страстям-похотям; когда же тело принимается стареть и сморщиваться, душа опять пускается в рост, возвращаясь к утраченному – уже через опыт и горькое осознание его конечности.
– Это не просто цветочек, это нам, дуракам, Бог показывает, как он и весь остальной мир устроил… по-честности. Как вкладываются и расширяются пространства: смотри, вот одна вселенная, вот другая, вот третья и седьмая… всё ради семени, этакого инобытия мира, гарантии его вечности и сохранности. И узор на каждом лепестке зеброй, тоже подсказка двумирности.
– Зеброй… – Семён вздохнул и ненадолго задумался, пытаясь вместить. Не получалось. – А что за слово такое «зебра»?
– Исковерканная «берёза», чёрно-белые полосы… вон, посмотри.
– Ладно, «зебра» от «берёзы»… хоть и экзотично, а сама «берёза» от чего?
– Да ты не глухой? От «резов». Береста это же русская бумага, берестяная переписка была раньше всех египетских папирусов и ханьских тряпок. Странно, если б было по-другому. Кому ещё так свезло: подошёл к поленнице, отодрал клок бересты, вырезал условленные чёрточки и отправил в соседнюю деревню с оказией: «Посылаю столько-то горшков с дёгтем, столько-то с мёдом».
– Сейчас придумал?
– Ничего я не придумывал… я удивляюсь, как ты, радетель за русскую древность, настоящего русского и не слышишь? Цепь во всю Евразию разглядел, а того, что прямо под носом, не различаешь. «Бо», «бе» – указательные частицы, со смыслом «это», «есть», «был». «Боян бо вещий…» – Боян… есть, был, это – вещий. Бо-ярый муж – боярин, бе-рёза – это для резов, для письма.
– Для письма-а… – передразнил Семён. – Названия деревьям народ давал тогда, когда никакого письма в помине не было!
– Письма учёному соседу не было, а накорябать родне в соседнюю деревню, сколько за зиму детей родилось и сколько скотины пало, – пожалуйста. На чём ещё? Глину из-под снега выкапывать? Месить, обжигать? И уж по-любому лучше, чем узелки расшифровывать, для узелков тоже ещё верёвку нужно было иметь, в хозмаге-то не купишь. Да я тебе больше скажу: и руны могли возникнуть только у народа, имеющего неограниченный запас писчего материала – бересты. Иначе как? На чём?
– А на чём евреи Библию написали? А Сократ? Платон? А Плиний Старший, у которого двадцать книг только «Германских войн», тридцать семь «Естественной истории» и остального столько же, если не больше?
Аркадий грустно рассмеялся:
– Вот если ты мне скажешь, на чём, я тебе без разговоров призовую налью… – и начал демонстративно откручивать фляжку. – Молчишь? Сам подумай, олух: бумагу изобрели китайцы только через тысячу лет, а твой Плиний на ней уже сто томов сочинений написал.
– Кто же тогда писал? Когда?
– Ты же сам полчаса назад об этом рассказывал: у нас гнобили – там сочиняли. Вот у вас в мозгах бреши!.. Появился спрос – появился и Плиний. Что за спрос? Лихорадочный. Необходимость удревнять, как ты сам говорил, историю Европы, наперегонки! Товар стал востребован и жутко дорог, тут-то все и бросились плинить, сократить, платонить… Целый континент исторических фантастов и врунов.
– Тут ты специалист…
– А то бы дураки-индусы, которые к бумажному Китаю-то поближе будут, пестовали целые касты браминов, чтобы совершить коллективный подвиг запоминания – тысячи лет «Ригведу» по памяти из поколения в поколения передавали, не могли, лентяи, гонца к твоему Плинию послать с рюкзаком рубинов, поменять на бумагу, вес на вес, – за-по-ми-на-ли. В книгу Гиннесса попасть хотели? Скажи ещё, что они на бычьих шкурах писали! Сколько на сто томов никому из современников непонятной и ненужной Плиниевой галиматьи нужно было произвести гекатомб? Гекатомба и в сытых Афинах событие исключительное, по большим праздникам, а уж у голодных евреев вообще один бык был на три кишлака… – Аркадий разгорячился, честнолюбивая душа его готова была вскипеть от вспоминания о вопиющих обманщиках, но – были дела поважнее: бредень, убавил газу, остыл… – А тут берёза! «Войну и мир», конечно, не напишешь, а маляву братану о новых бортях почему бы не вырезать? – И видя, как морщится от неумения возразить Семён, постучал ребром ладони по грудине: – По-честности!
– Берёза пусть… – согласился Семён. – Но руны – дела германские, скандинавские!
– С чего бы? – снова возмутился Аркадий. – Ну откуда в тебе, русском поэте, это тупое плебейство? Руны – это раны, порезы, прорезы, резы… и изначально именно по бересте, по бе-рёзе, и струна – это стоячая, напружная руна, ст – тугая жила, проволока, а остальное – руна.
– Звук, что ли?
– Не сам звук, а… как тебе сказать… смысл звука… душа его.
– А по-германски «руна» – тайна, это ближе к смыслу: тайнопись.
– Для них – конечно, тайна, они же дети, ни хрена в рунах не понимали… и до сих пор не понимают, по-честности!
– Ладно, ладно… – смирился, наконец, Семён. – Только скажи: какая разница между «по-честности» и «по совести»? Разве не одно и то же?
– Конечно, нет! По совести – это по совести, а по-честности…
– Это по-честности. Понятно. Разница какая?
– Вот ты недогоняла! По совести – это по совести, а…
– Всё, всё, всё!.. – замахал руками Семён.
– И совсем не всё.
– Ясно… Можно и поровну. Ещё можно по справедливости.
– Можно, если это по-честности.
– По справедливости и по-честности – это…
– Удивляюсь, как же можно так ничего не понимать? Справедливость – это математика множества, а честность – это физика единичного. Справедливость – это счёты, мыло в общей бане, а честность – компас, родинка на твоей щеке. Справедливость слепая, а у честности даже пятки с глазами. Справедливость, как и правда, может быть шемякиной, потому что она снаружи, а честность только своей, потому что она изнутри.
– То есть честность может быть несправедливой?
– Больше: не может быть справедливой. Как и справедливость – честной. Рыба не может быть птицей, даже если это летучая рыба.
– Почему же ты по-честности, а не по справедливости?
– Я же не судья какой-нибудь. Ты чего хочешь от меня?
– Правды.
– Это не ко мне, я по-честности.
– А по-братски?
– Скажи ещё по-товарищески.
– Скажу ещё: по потребностям, по способностям и по труду.
– Ну, по труду у нас не катит, а потребности ограничены нашими способностями. Есть, например, у Николаича потребность выпить литр, а способностей всего на бутылку.
– Э-э! Ты путаешь желание и возможности.
– Ничего я не путаю, это вы в словах заблудились… по совести, по справедливости, по-братски – всё это пена, я только по-честности.
– И при этом врёшь несусветно.
– Не перебивай. Честь старше любой заповеди религиозной, никаких Христов не было, а честь уже была.
– Была, – согласился Семён и процитировал: – «Мы всегда воздавали злом за зло, а иногда и добром за зло, следуя нашей чести» – это ещё хеттские полководцы в своих посланиях писали. Четыре тысячи лет назад. Но что она такое? Вот один французский умник говорил, что честность, как и все наши чувства, надо подразделять на два рода: честность положительную и отрицательную.
– Нашёл у кого честность искать! Честность у них отрицательная… Поэтому Гитлер на третий день уже по Парижу и гулял. Отрицательная честность – это не по-русски. Бальзак – не по-русски, как и Дарвин – не по-русски. Чисто английская идея-убийство: выживает сильнейший. У нас выживают все.
– Кроме русских. Нет, ты скажи, что она такое, твоя честность? Нравственный принцип?..
– Ну, адепт ордена Правды, ты этику ещё сюда приплети… Все твои нравственные принципы воняют обществом трезвости, а у иного пьяницы чести больше, чем у всех трезвенников мира, потому что трезвость – это всегда ложь по отношению к живущему в тебе Богу, лавирование, компромисс: хочу, но партком не велит, тихушничанье, онанизм с пустым стаканом, а честь всегда бескомпромиссна, честь – это никакой не нравственный принцип, принятый всеми, то есть внешний, вроде пальто (сегодня такое в моде, завтра другое), – это устремление к себе, старание себя, вытягивание себя за уши из всякого религиозного вранья, в котором ответственность за всё, мир, вселенную, со своего, единственно существующего внутреннего Бога перекладывают на общего, внешнего и не существующего. Или поп с парткомом, или честь. И ничего-то в ней нет мармеладного, честь – это всегда каторга, неволя.
– А как же узнать: по-честности или не по-честности?
– Зачем знать? Когда у тебя что-то болит, тебе об этом знать надо? Болит, и всё. Только не тело, а … – И опять постучал ребром ладони в грудину.
– Погиб поэт, невольник чести…
– Именно невольник… Честь – это соль души. И черти, когда за душами охотятся, только чести в ней и ищут: ниспровергнуть, заглотить, насытиться, это самое энергетически ценное, просто души, как ракушки без жемчужин, даже и чертям не нужны. Мир, особенно западный, живёт договором, законом, а русские…
– Стой, стой! Разве плохо: договориться обо всём и следовать договорённостям?
– Для бесчестных – конечно, неплохо, им узда нужна. А нормальным людям законы вредны. Потому что они становится вместо чести. Ты понимаешь, большая разница: не иметь чести изначально, куда ж таким без закона, и потерять её вдруг, имея прежде. Тут никакой закон не удержит… У них там до чего дошло – брачный контракт! Если есть любовь – на хер этот контракт? А если её нет – дважды на хер.
– Это когда делить нечего.
– Эх, бедолаги… Всё у них с ног на голову. А наши умники под этих недоумков, как циновки, стелятся.
И опять остановились выпить, три метра от дороги, в травах.
Растянулись на спине – духмяно, тихо, только шмелиное да пчелиное гуденье по обильному майскому цвету… хорошо!
Аркадий жевал какой-то стебелёк.
– Бабуля меня, как только ягода начнётся, всегда кулагой кормила, вкусная!
– Где она в Рязанской губернии курагу брала?
– Кулагу, темнота. С земляникой, потом с вишней, черникой, малиной, брусникой. А когда уже с калиной, то мёду добавляла.
Одна пчела трудилась на одуванчике прямо перед носом Семёна.
– Пчела… что за слово, Аркадий? Отчего её так назвали?
– От уважения, – ответил, недолго думая, Аркадий.
– То есть?
– Живут они правильно, по-человечески – по чела, потом «о», как водится, вытекло – хоробрый-храбрый, молоко-млеко, и осталась п-чела.
– По-моему, мозги у тебя вытекли… по-человечески сейчас волки живут или того хуже – собаки.
– Так это сейчас, а когда слово придумывали, и люди жили по-человечески, по-честности!
– А про твою честность я вот что думаю…
– Не надо, не надо думать, – перебил его Аркадий.
– И то… Ахав никогда не думает, он только чувствует, этого достаточно для каждого смертного.
– Пойми ты, честность – это не просто говорить правду, это даже как-то пошло, а некое соответствие душевному курсу. Правда же вроде ветра: кому попутна, тому и правда. Кому-то она может быть и боковой, может и встречной – что ж, жизнь! А честность – это оснастка такая в душе, с ней по верному курсу можно плыть и при боковом ветре, и против ветра.
– А можно мотор поставить и вообще на ветер наплевать.
– На ветер наплевать – это к немцам, англоцузам, франгличанам каким-нибудь… Я к тому, что тут опять не арифметика, не геометрия… и когда найдётся какой-нибудь аристоном да возьмётся раскладывать хорошего человека по полочкам, препарировать его положительность, то наверняка это будет не русский мудрец, какую бы он русскую фамилию себе ни придумал. Есть, допустим, правильный человек: стремится к развитию, обладает самоуважением, ответственностью, выдержкой и мужеством, и при этом относится к другим людям с уважением и… этой, как её… эмпатией, а вот пить с ним не будешь, ибо всё в нём не по-честности, а только по правде. Ну, и куда такую правду акунуть? Я прямо так и вижу, как этакий стремящийся к развитию, обладающий самоуважением, выдержкой и мужеством аристоном-англичанин травит собаками индусских шудров.
– Э, не может! Он же ещё относится с уважением к другим людям.
– Это вообще просто: надо не считать за людей тех, к кому ты с уважением относиться не собираешься. Шудры для них не люди – вот и полная правда… А само слово – «правда» – хорошее, только номинал у него небольшой и золотом, – постучал по груди, где по его разумению хранилось человеческое золото, – не обеспечено. Правда может быть карманной, у каждого своя, а честность в кармане не умещается, её только тут, – постучал по грудине, – носить можно…
– А как же слеза ребёнка?
– Плохо. Придётся поплакать.
Пришли.
– Ну, где твоя лужа?
Заливная низина с другого края острова очень напоминала обыкновенное болото. После поселившейся в глазах и текущей всего в двухстах метрах светлой широкой реки она, спрятанная от клонящегося уже солнца густыми островными зарослями, сразу придавила обоих рыбачков своей мрачностью.
– Днём надо было сюда, пока солнце с этой стороны, как-то мне… бр-р…
Да уж, как заметил ещё автор «Орли», «ничто на свете так не смущает душу, так не тревожит, а порою и пугает её, как болота. Но откуда берётся этот страх, парящий над покрытой водою низиной? И что уподобляет её некой созданной воображением стране, грозной стране, хранящей непостижимую и смертоносную тайну?.. Нет, тайна, которую источают болота, которую всосали в себя их густые испарения, куда глубже, куда значительнее – это, может быть, тайна самого творения!»
Посмотрели друг на друга с недоумением: «вот же рядом река, чистая, песчаное дно, рыбы – во!.. Нет, надо в это непонятное болото. Что мы за люди?»
– Ну, скажи, почему мы от чистой реки полезли в тухлое болото?
– Там же что-то есть, там же определённо что-то есть.
– А в реке?
– Да в реке-то ясно что – рыба.
За кустом, растущим в воде, метрах в пяти от края, раздался сильный всплеск, как будто уронили в воду хорошее брёвнышко.
Семён остановился – холодок, запрыгнувший на затылок от непонятного грохота, с затылка скатился к ступням и приморозил их к земле.
– Может, ну его, этого сома?
– Ты что? – возмутился Аркадий. – Давай, накати по-взрослому, да раздевайся!
Накатили, закачались.
Бредень оказался длинным только в магазине, когда его растянули вдоль берега лужи, получилось, что «не замочив ноги», лужу не процедишь, пришлось заходить – сначала по колено, потом по пояс.
– Ты же говорил, ребята даже трусов не замочили!
– Так они с корзинами, по краю.
– По краю… А холодно… ключ, что ли, тут… Заходи, заходи теперь глубже!
Мотня с траком («чтобы хорошенько по дну прошёлся, все эти сомы да сазаны в иле!»), проползя от края болота метров пять, вдруг резко клюнула вниз.
– Есть! – очумело крикнул Аркадий. – Вот тянет!
– Кит… – Семён восторга не разделял, он уже понял обманку: толчок от непредвиденно нырнувшего в глубину трака спутать с ударом в мотню большой рыбы было, конечно, немудрено, особенно если её, рыбу, ждёшь, но, что ни говори, сом и трак даже в мотне ведут себя по-разному.
Уходящая в бездну мотня натянула крылья бредня, потащив плывущих уже с двух сторон болотца ребят к середине. Семён успел схватиться за куст, а Аркадия, отчаянно гребущего одной рукой (в другой был кол) тянуло, как буксиром.
– Отпускай! – кричал уже ему Семён. – Утащит!
– Только со мной! – тщетно болтая ногами, отбулькивал Аркадий.
– Идиот! Отпускай!
– Врёшь, не возьмёшь, – погружаясь и выныривая, чапаил лиофил, – врёшь!
Уходящий вместе с бреднем на глубину трак дёрнул Семёна, он выпустил свой кол, тот сначала поплыл, но через пару метров исчез под водой… за ним исчез и Аркадий.
– Отпускай! – орал неизвестно теперь кому что было мочи Семён. Нырять, спасать друга в голову ему не пришло, вернее, пришло, но, видимо, не в то полушарие, которое принимает решение. В левое. Правое же разрешило ему доплыть до пузырей в середине лужи. Пока плыл, причитал: «Аркань! Арканя, родной, выплывай, Аркадий! Ё… твою м… Арканя!..». Вся, как говорится, жизнь друга-Аркадия промелькнула у него перед глазами, а как только промелькнула, тут и сам Аркадий воткнулся из глубины ему головой в живот…
Выбрались на траву.
– Тут точно ключи, – зуб на зуб у Аркадия не попадал, – как в проруби.
Семён молчал.
– Лужа-лужей, а глубинищ-ща! Х-холодно.
Семён молчал.
– Нет, это не трак, трак, конечно тяжёлый, но это не трак… кто-то тянул.
Семён молчал.
– И плеснулся же перед этим, слышал?
Семён молчал.
– Ну и хер с ним, бреднем! Чего ты? Завтра достанем, сделаю кошку и достанем.
Семён качнул головой:
– Чего же завтра? Нырни сейчас.
– Не-е, там холодно!
– А ты как йог: внуши себе, что жарко, и не дыши… ныряй!
– Йог, йог… они же… – выразительно потряс ладонью у виска.
– Нам тоже мудозвонов хватает…
– У всякого Острова с белым столбом к Богу в небо, – пропустил про мудозвонов мимо ушей Аркадий, – на задворках должен быть омут с холодной чёрной бездной в преисподнюю, к чёрту.
– Наверное… – отошёл наконец Семён от некоторого шока. – Как сказал один рыбак, черти тоже неплохие ребята.
– Он, видно, крупную рыбу ловил.
– Крупную. Китов. Ладно, наливай!
– Вот, другое дело!
Выпили, оделись и, на ход ноги, выпили ещё. До косы было далековато, защитные её чары не работали: пьянели, даже несмотря на холодное купание.
– Жалко бредень, двадцать пять рублей с команды.
– Достанем! Кошку сделаю, нам ещё и сеть тралить.
Семён посмотрел на друга с уничижительным презрением:
– Рыбак!.. Байдарку утопил, сеть утопил, бредень утопил… что у нас ещё есть тяжелее воды? Хотя зачем тяжелей? Ты и воздушный шар утопишь.
– Ладно тебе… – Алкоголь шёл обычным путём, язык и мысли у друзей стали путаться. – Скажи лучше, откуда здесь всё-таки такая дыра?
– Я слышал, что все бездонные водоёмы – это бывшие святые места… Нужно у местных поспрашивать: иконы тут не всплывали?
– При чём тут иконы?
– Если бывшее святое, значит, утонула церковь. Со всеми иконами.