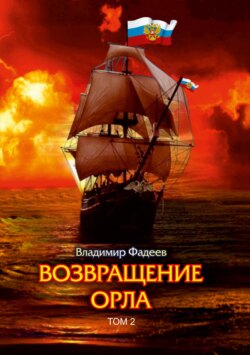Читать книгу Возвращение Орла. Том 2 - Владимир Алексеевич Фадеев - Страница 8
16 мая 1988 года, понедельник
Семён расследует
ОглавлениеДержа в руке живой и влажный шар…
М. Волошин, «Европа»
Кати в музее не оказалось – Семён сразу осиротел.
С утробной тоской чувствовал, что по какому-то не выразимому словами главному параметру не дотягивает до этой девушки. За её внешней простотой, платьицем, тапочками, даже за приятельской расположенностью к нему (которую в любом другом случае он быстро переплавил бы из приятельской во флиртовую), как утёс за ночующей у него на груди золотой тучкой, угадывался совершенно другой человеческий материал, даже название ему Семён подобрать не мог: всё сине-чулочное – а это первое, что просилось в определение – было слишком примитивно, никаким синим чулком, недотрогой, букой она, конечно, не была; ведьмаческое (второе, что приходило на ум) – наоборот, слишком неестественно, даже у очень молодой ведьмы, ведьмы пусть и в простом, языческом смысле, обязательно торчала бы из души какая-нибудь нарочито неприкрытая каверза… Но особенно сбивало с панталыку непонимание её возраста: в один момент она казалась ему маленькой девочкой, беззащитной из-за своей детской доверчивости, и тогда хотелось спрятать её от этого мира в ладошках, защитить, согреть… а в следующее мгновенье годилась в матери, впору упасть ей на грудь и самому залиться детскими слезами… и реже всего она виделась в своих двадцати шести, но даже тогда, представ вдруг перед ним поверх обычного уже морока томно-сладкой и желанной, и тогда даже, что и было совсем необъяснимо, вместо того, чему стоило бы подняться, из муладхары поднималось некое заморское кундалини и топило в щенячьем восторге все банальные и такие неожиданно жалкие плотские желания: вместо женщины появлялась девушка из детских мечтаний, девица из сказок… и – Дева.
Пробовал представить её матерью. Не получалось. Не про неё, видно, розановский канон, где девушка без детей – грешница, про неё скорее горьковский, по которому все женщины неизлечимо больны одиночеством, только одни, включая многодетных матерей и многомужних жён, – латентные, а другие, вот такие, как Катя, – явные… Хотя… хотя как раз явных симптомов, вроде устало-зовущего взгляда, с разной степенью тщательности упрятанного в томность, у молодой дединовской вещуньи и не было. Наоборот, это ты рядом с ней начинаешь казаться себе одиноким и всеми покинутым и ловишь себя на желании попроситься в угадываемую за ней свиту.
И ещё имя: Катя… Вот ведь! Кремневое «К», открытое, но тоже по-своему, «по-гласному» каменное «а», эталонной твёрдости «т» – разве можно такие звуки надевать на прекрасное, хрупкое созданье?! В этом трезвучии живёт эхо неотвратимого наказания, жёсткое требование ответа даже за не совершённое, но предполагаемое, возможное при малейшем отклонении от собственной природы, преступление. Недаром кат по-старому – заплечных дел мастер… Но «я»! Как оно смягчает это эхо (как и все, почти все русские имена – Коля, Валя, Маня, Толя, – все, которые нужно смягчать. Немцы не умеют говорить по-русски правильно, потому что им уже недоступно это неразрывное смягчение изначально жёсткого смысла, превращение его безжалостного природного звучания в человеческое – Катя, у них разрыв: Кат я, Кол я, Вал я)…
А иногда ему даже казалось, что под этим платьицем вообще нет тела или, по крайней мере создано оно совершенно из другого материала, чем тело жены и двух его лыткаринских подружек, или что внутри этого тела, обманного, спрятано настоящее, то самое другое… И он – поэт, футболист, физик-ядерщик! – был ей, мышке музейной, катастрофически не ровня. Чувствовал, что её тайна тут и кроется, в нём, не способном достичь нужной высоты в уважении и почитании Девы, то есть он недостаточно для этого Герой. Это минус, но есть и плюс: при ней он с какой-то прописной очевидностью ощущает необходимость стать им…
И на понимание этого натолкнула его опять-же она:
– Мужчинам только кажется, что они отцы, они – дети. Знаешь, в чём ваша беда? Вам не хватает настоящих женщин, которые не позволили бы вам не быть героями. Ваша беда, наша вина. Все ругают, и будут долго ещё ругать и валить всё на мужчин, ошибочно полагая их изначально сильными, а вы слабые… посмотритесь в зеркало! Но вы не виноваты… то есть, вы, слабые, не так сильно виноваты, как мы, сильные. Не знаю, как правильно сказать, но я чувствую, что у этой земли, у этих рек и полей сущность – женская… точнее, в женскую душу сила из этой земли льётся свободней, поэтому её в нас больше, и уже через нас она перейдёт, должна бы переходить в вас…
– Благородно, конечно, но не думаешь ли ты этим благородством совсем добить нашего пьяньчужку?
– Нет, потому что это – правда. Нашему человеку от правды хуже не бывает… по-честности… так ваш Аркадий говорит?
– Неужели здесь вся сила от женщин? И никак не может быть по-другому?
– Может, но когда на этой земле появляются мужчины со своей силой, от неё только разор. Вот увидишь, скоро опять придут сильные мужчины, сильные своей силой, и земля от их силы заплачет. Да так уже бывало. У силы, которая не через нас, другой цвет и чужой запах…
– Назад в матриархат? Да здравствует бабий век? Катька-Анька-Лизка-Катька?
– Нет-нет, женщина не должна управлять, она должна вдохновлять. Не управлять, а, если хочешь, направлять, потому что вы, мужчины, мир знаете умом, а мы его чувствуем; знание же может быть ложным или неполным, а чувство – нет, во всяком случае, гораздо реже. Поэтому и были во всех порядочных культурах институты женщин-жриц.
– Пифии, весталки?
– Да, без их слова ни одну войну не начинали. И у кельтов были женщины-жрицы, и в Индии были йогини-колдуньи, да и наши ведьмы и бабы-яги с того же поля.
– А амазонки!?
– Нет, амазонки – это поляницы-богатырши, они не жрицы, они вроде как монашки-воительницы, Пересветы и Осляби в юбках.
– Почему монашки?
– Потому что амазонки. Не матери, не жонки, а-ма-жонки.
Семён даже остановился.
– Вот это я Аркадию предъявлю!..
– Аркадию?
– Он у нас ещё тот этимолог… Фасмер, если б с ним полчаса поговорил, сжёг бы свой словарь в трёх огнях, а сам бы повесился.
– А откуда он черпает? Много читает?
– Вообще не читает. В воду смотрит.
– В воду? Интересно… Правда, очень интересно.
– Что ж вы тогда дур валяете? – шутка прозвучала жёстко. – Вдохновляйте!
Вспомнил этот разговор, снова не согласился: ну, не может быть женщина виновата! Виноват всегда мужчина, даже когда виновата женщина. Особенно когда виновата женщина, мужчина виноват трижды, позволив женщине стать виноватой.
Записал это как стихотвореньице.
И ещё показатель: при Кате хочется писать стихи. Конечно, поэзия не может заменить всю любовь и только вытекает из нее, как из озера ручей – вспомнил вдруг Семён (кажется, из Пришвина) и добавил из своего чувства, что стихи пишешь иногда только ради того, чтоб услышал их один только человек. Даже если он их и не услышит.
В библиотеке, что через две двери от музея, карта Союза висела на стене, а рулон с политической картой мира 1985 года, томик «Малого атласа», два тома Большой советской энциклопедии на «Б» и «О» и деревянную тридцатисантиметровую линейку выдала, подозрительно оценивая его взглядом, пожилая библиотекарша. Когда попросил ещё и глобус, библиотекарша оценивающий взгляд сменила на подозрительный.
Первым делом отыскал глазами Коломну – то место, где Оке словно переламывают хребет, заставляя отказаться от стремления на север, и несколько миллиметров по карте вправо и чуть вверх, где её, реку резко поворачивают обратно на юг. «Плечо, на нём Ока как коромысло висит…» Иголками закололо ступни: на этом месте сейчас стоит он. Вспомнил: «Ока-ломана», Коломна. Вот…
Две великие реки, как две большие материнские ладошки, обняли серединку русской земли и хранят её силу и её тайны… Снизу – Орёл, Калуга, Коломна, Рязань, Муром, сверху – Калинин, Ярославль, Кострома, Горький да сколько ещё… В серёдке, внутри «ладошек», – древние столицы: Ростов, Суздаль, Владимир, а в самом центре этого объятья – Москва. Нет, не могла так просто сложиться такая картинка, какой-то надмирный стратег стоял вот так над Землёй, как он сейчас над картой, и выстраивал внутри речных ладошек нужный ему порядок. Зажмурился: видимое пространство междуречья, как покрытая ряской поверхность древнего водоёма, стянулось временем в узелки городов, но в оставшихся от таких стяжек прогалах ему открылось пространство прежде невидимое, таинственная глубина; таинственная, но настоящая, в которой суть и смысл этого места на земле и самих этих городских узелков в том числе.
И совсем иначе представил вдруг и саму Землю – как будто дымная пелена упала с глаз, и привычное, окаменелое мнение о ней как о стоящем на наклонной подставке картонном шарике, показалось не просто смешным или обидным, а зловещим обманом: он водил ладонью по карте и чувствовал под рукой подрагивание и тёплое пульсирование большого живого существа, столь же чуткого, сколь и терпеливого, но не бесконечно терпеливого, терпеливого до какой-то границы… какой?
Усмехнулся: как много нам открытий чудных…
От Оки до Оки. Две названные в рукописи Оки, кроме их родной, – уральскую и байкальскую, нашёл легко (правда, башкирскую через энциклопедию), с остальными помучился.
Потом ползал по карте с линейкой: проверить все эти большие, от Оки до Оки, сажени да вёрсты. Записывал циферки, умножал их и бормотал про себя:
«Вот, от Орла до Большой Оки… примерно… при масштабе… сто сорок в сантиметре и на пятьдесят девять… ну, скажем, шестьдесят сантиметров, шестьдесят на сто сорок будет… восемь тысяч четыреста. Теперь разделим на пять… тысяча шестьсот… ну, почти тысяча семьсот километров друг от друга. Вот она, волжская сажень…». Омскую Оку на карте не нашёл, измерил сразу до Оки байкальской, пересчитал, получилось где-то три двести с копейками, а как раз между ними – Омь, с ненайденным притоком Окой омской. И одно число выплыло ещё из школьной памяти… 1666 километров, скорость вращения земли… на экваторе. О-хо-хо… Где экватор, а где мы… А всё равно, всё равно…
Какая-то тайна пробивалась через все эти циферки, стариковские сказки про волжские сажени и маршрут этого неведомого странника через три Оки на дальнюю Волгу укладывались в них, как кортик в ножны. Получалось, и правда – в памятные (или незапамятные времена) существовала на наших просторах человеческая общность, окормляющая с совершенно недоступной для нынешнего понимания целью эти просторы!
И ведь что интересно: любой мало-мальски образованный человек, равно как и любой же профессор древности, вспомнит с десяток цивилизаций, исчезнувших в разные времена и в разных сегментах нашего голубого шарика: Му, которая Лемурия, Атлантиду, империю Рамы, цивилизацию Осириса в Средиземноморье, цивилизацию пустыни Гоби, Тиауанако, Майя, древний Китай, древнюю же Эфиопию и даже древний Израиль, и даже непонятные Ароэ и Королевство Солнца в Тихом океане… развалины, развалины… и никто почему-то не говорит об очевидном, оставившем живые следы до сего дня и, по всей видимости, скрепляющем нынешний мир от Оки до Оки… Причём эти Оки – уже результат, из чего-то же они выросли? Из какой Оки первой? А ведь, скорее всего, отсюда, из межледниковой подвалдайской щели.
Едва открыл энциклопедию, как наткнулся – не случайно! – на статью про Пугачёва. Просмотрел, подумал: и почему герой пошёл по цепи именно тогда «крепить тартарскую сшивку»? Закрыл глаза, вызывая в памяти ночной сон про Золотую цепь, в надежде увидеть точное место звена на западе или дальше на востоке, или вспомнить, что происходило в те годы – берег давал пищу таким надеждам: одна Ахтиарская бухта с материализовавшимся письмом Потёмкина чего стоила… Строем поплыли картинки, даты, имена. Словно рядовые на перекличке, выступали из строя при первой легкой ассоциации даже образы героев времён первых глав тетрадочки, да так ясно, что не понять было – что из статьи про Пугачёва, что из ночного путешествия. Нет, не соврал Аркадий про майские виды, не соврал! И про этих, потерявших букву «в», но не смысл, потомков этрусков, тоже не соврал.
Сгрёб в голове просмотренное и прочитанное в кучку. Так… что могло встревожить дедновских стариков в 1760-х?.. Не падение ли великого огня с неба в 1759 году, сотрясшего планету и тем сдвинувшего с мест готовые к движению мировые силы? Эту катастрофу Морфей прокручивал несколько раз – не просто же так! Только не очень ясно: великого огня или великой воды?
И как будто от этого удара в России по прихоти Петра Третьего, то бишь Карла Петера Ульриха Гольштейн-Готторпского окончательно отслоилось от народа дворянство, получив вольную, сам же народ, вместо ожидаемых аналогичных поблажек, ровно наоборот: получил указ о запрещении даже жалоб на помещиков… то есть на внутреннем поле фигуры с пешками разведены окончательно, наступило ожидание сигнала. Кто постарался? И с пешками ли? Во сне была странная картинка: посетил Россию в эти самые годы Владыка Седьмого луча и содействовал государственному перевороту, в результате которого на трон взошла София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Владыка… Если не участник, то наверняка – предвестник.
И началось: восстание гайдамаков, эпидемия чумы, чумные бунты в Москве, шестилетняя война с Турцией, Пугачёв… в Малороссии униатами отобрано у православных 800 церквей, а с выданных полякам гайдамаков живьём сдирали шкуру. События… Так, когда «Орёл» спустился за командой? По рукописи – в 1769-м, а в 1770-м Огненный Орёл уже пригнездился (уронил перо) в Иркутской области. Сходится, что и говорить…
Это в России, а что в мире?
А в мире до смерти дружившие французы и англичане как по команде пустились в кругосветные плавания – первая французская кругосветная экспедиция Луи Антуана де Бугенвиля, первая из трёх кругосветка англичанина Джеймса Кука. С чего бы это они сорвались? А вот русские вокруг света не поплыли, зато в тот же год, когда англичане с французами наперегонки бежали от материка к материку, русский флот, стоявший тогда в Ливорно, опять удостоил своим посещением Владыка Седьмого луча, правда, под личиной графа Салтыкова.
Интересно: В 1773-м Пугачёв начал бунтовать одновременно с запретом папы Климента XIV Ордена иезуитов, хотя иезуит-каноник Вайсгаупт уже в 1770 году, за три года до репрессий знал, что скоро придётся со всем нажитым непосильным трудом делать из Европы и Индии ноги… Куда? На восток – в Россию и Китай. И первым делом рыцари занялись изготовлением… русской и китайской истории: русскую переписали со сворованной в своё время у русских же древнеевропейской истории, а китайскую, предварительно уничтожив и малой частью переписав все имевшиеся книги, – с ещё памятной тартарской. Лучшие иезуитские умы ни для добродушных русских, ни для покладистых китайцев вранья не жалели, но вранья разнозначного – русскую историю на тысячи лет укоротили, китайскую, наоборот, на несколько тысяч удлинили; китайцы были довольны: чужим интересом получили фантомные тысячи лет прошлого, которые со временем обросли книжным мясом и, как вочеловечившийся призрак, этот исторический голем зажил весьма гордой жизнью в обществе других таких же отвердевших фантомов. Особенно постарался иезуит Маттео Риччи, сочинивший целых пять томов Конфуция. Так на востоке со всеми необходимыми метриками появился перспективный дракончик, послушный своим родителям и время от времени поднимающий свой гребешок из-за Великой стены. И это всё в 1770-е годы.
В это же время английским парламентом была оформлена система управления Индией, по которой губернатор Калькутты автоматически становился генерал-губернатором всей подневольной страны, а британский генерал-губернатор Бенгалии, войдя в город Патну, уничтожил крупнейший в мире иезуитский наркоторговый синдикат и установил монополию Ост-Индской компании на торговлю бенгальским опиумом. Говоря современным русским языком, перекрышевал наркотрафик. Осмелели, разом вдруг все черти осмелели!
Да, пока наш странник шагал неизвестно зачем через полземли от Оки к Оке, не теряли попусту времени и по ту сторону океана. Ещё не засохла на Лобном месте кровь Емельяна Пугачёва, как наш Владыка Седьмого луча, теперь как посланник Совета Мудрецов, борющихся за прогресс человечества с самой зари Цивилизации, в профессорской мантии появился в Америке, без труда завел дружбу с Бенджамином Франклином и Джорджем Вашингтоном и объяснил им, как жить на американском новом свете, а именно – нужно срочно провозгласить полную независимость Америки, и положил на стол черновик соответствующей Декларации. Через год эта «Декларация независимости» была принята – возникли Соединённые Штаты.
Итого.
На Земле в середине 18 века случается нечто из ряда вон – комета, потоп ли, – но мир и человечество, как часть его, словно молоко от капли лимонного сока, приходит во внутреннее движение и в считанные (по историческим меркам) мгновения, меняет и вкус, и цвет, и консистенцию. К рубежу 1770 года назревают переломные события – астрономические, климатические, и связанные с ними геополитические и социальные.
Бог с ней, с астрономией, что в человейнике? Во-первых, что-то стало с самими людьми: их как будто изъяли из отдельных коробочек общин и каст и высыпали на один стол, всех и сразу сделав послушными фишками в руках больших игроков. Всех и сразу, как русских крепостных, потерявших право даже жаловаться на освобождённого от службы помещика. Дальше. У игроков появились общие правила, то есть накопилось достаточно денег, чтобы они из мелких кровотоков слились в одну кровеносную систему, в которой поддерживается одно давление, контролируемые расход и температура. И последнее: игроки научились быстро общаться на понятном им языке и влиять друг на друга не только толпами вооружённых людей или мешками с золотом, но и проворным тиражируемым словом.
Человеческий мир изменился. Взрывообразно изменился. Ему срочно шили новую одежду.
Морские духи первыми поймали в свои паруса новый ветер. Но и речные духи, то есть духи суши, были чутки.
Попробуем сформулировать.
Значит, так. Окские волхвы, духи суши, предвидя ситуацию, готовят своего рода «агентов влияния» на мировые процессы через подключение к активируемой силе «золотой» окской цепи – своего рода стабилизирующему земному резонатору от океана до океана. Подготавливают трудника из династии волхвов: с детства его воспитывает дед, в двенадцать лет везёт его к дединовским старцам на посвящение и имянаречение (совпадает с возвращением Орла), после чего он принимает в свои мехи ещё и чью-то душу, исполняет малый урок – Исток, чтоб въехал в суть речного держания, и через шесть лет – большой урок, хождение за три Оки, на «дальнюю» Волгу, в тот узел Золотой цепи, который оказался ослаблен поражением остатков Великой рати в сумбурной пугачёвской войне и на который указал Орёл, уронив на него с неба своё перо («гнездо огненного Орла») как знак планетного энергонапряжения и предостережения. Война Романовых с Пугачёвым, а по сути – с поражённой большим огнём (или водой?) Тартарией подтвердила: битва началась, надо вмешиваться. Он по-своему осмысливает её итоги – как начало уничтожения того, что и держало до этого времени землю, и приходит к выводу: землю не удержать «сидением на «Оке», а только вмешательством в начавшийся процесс весёлого гниения, губительный для держащего народа, а значит, и для планеты. Суть его спора со стариками: старики над схваткой, их главная забота – регулировка гео-антропо-космического энергообмена, он рвётся в схватку, убеждая, что если мы не будем воевать, то скоро и держателей не останется, и дело их погибнет. Чувствует в себе для этого силу.
Кто-то хлопнул дверью. Семён как будто очнулся от сна-рассуждения наяву и, вдохновлённый, подгрёб поближе к себе карты, атлас, линейку, энциклопедии и начал упрямо отмерять волжскую сажень на восток и запад от не вызывавшей сомненья Большой Оки в Башкирии. «Ну-ка, ну-ка, оттолкнёмся ногой от Урала!.. Речка-то тьфу, а поди ж ты – Большая. Не оттого ли, что следующая Ока ещё меньше, не найду вот её на Оми… Или не по размеру Большая большая, а по значению для этих мест, для всей цепи?». И снова забубнил про себя всё ту же пушкинскую строчку: «о, сколько нам открытий чудных…»
Чудные открытия не замедлили…