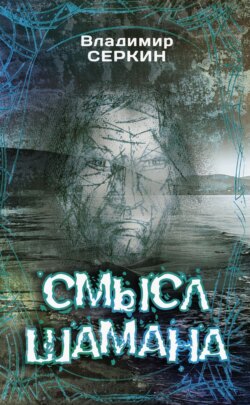Читать книгу Смысл шамана - Владимир Серкин, Владимир Павлович Серкин - Страница 4
3. Из биографии Шамана
К биографии Шамана
«Из биографических данных»
ОглавлениеНеобходимость описать кое-что из биографии Шамана обусловлена, в основном, тремя факторами:
1. Читатели задают много вопросов (спасибо!) о том, как мог сформироваться такой человек, как Шаман, с его мировоззрением и философией, позволяющей ему выживать, быть здоровым и эффективным в самых разнообразных, порой невероятно трудных условиях?
2. В последние годы появилось много самозванцев, объявляющих (или «таинственно намекающих») о том, что именно они являются прототипами Шамана.
3. Появились участники некоторых сетевых групп о Шамане (сайтов и пр.), которые недовольны сообщаемой мною информацией о Шамане. И (иногда довольно агрессивно) указывают мне (автору книг о Шамане), что, по их мнению, я пишу правильно, а что – неправильно. При этом мои отдельные фразы или даже отдельные слова выдергиваются из контекста. До смешного доходит. Например, я пишу: «Не так», а автор сайта утверждает, что Серкин написал слово «Так». И когда возражаю, то встречаю такие эмоциональные доводы: «Но ведь слово „так“ взято из Вашего же текста („Не так ли?“)».
Таким просто предлагаю самим написать и опубликовать более правильные, по их мнению, книги о Шамане (почему-то это вызывает озлобление и новую агрессию) и, во избежание дальнейшей агрессивно-искажающей переписки, прекращаю сотрудничество с такими сайтами.
Некоторые факты из биографии Шамана уже изложены в книгах «Хохот Шамана», «Свобода Шамана» и «Звезды Шамана» (спрашивайте об этом, разоблачая самозванцев).
Шаман (после ранения на Первой Империалистической в 1914 году) работал по договорам референтом в Румянцевской библиотеке, был лично знаком с Блоком, Вернадским, Чижевским, Циолковским и многими другими. И даже был ведущим (координатором) их спонтанно образовавшегося интеллектуально-культурного кружка. Был замешан в политическом движении, потом в восстании левых эсеров, арестован, бежал в Иркутскую область – Якутию, откуда позже сам ушел по тогда еще действующему Охотскому тракту в район будущей Магаданской области; был рабочим в геологических экспедициях (еще Обручева и др.); торговал с японскими рыбаками (шхунами) и был год женат на привезенной по заказу девушке-японке (и еще несколько раз женат, есть дети, внуки и правнуки); служил в РККА; учился в УВВКАУ и в Хабаровском медицинском; во время Отечественной войны служил в Закавказье (на границе с тогда союзницей Германии Турцией), потом, кажется, с 1943 года, на Северном флоте, был в плену, осужден за это; периодически живет в хижине на побережье и в городах, последний раз уже в начале 2000-х в Ярославле занимался участком (12 соток) и ресторанным бизнесом (кажется, поставками продуктов); иногда лечит обратившихся к нему и выполняет другие традиционно считающиеся шаманскими работы, сменил много занятий и профессий (от монаха до браконьера, от физика-исследователя до разнорабочего на стройке). Только рассказов Шамана об этом хватило бы на несколько авантюрных романов. Но мой ресурс времени несколько ограничен, как психолога меня интересовало главное – сами по себе события мало влияют на формирование личности. Влияют переживания, интерпретация событий и, главное, собственная активность (деятельность) человека в этих событиях. При этом некоторые события все же придется описать, так как без них непонятно влияние.
Конечно, опубликованные на сегодня сведения фрагментарны, поэтому я начну с сегодняшнего дня периодически дополняя их (полная биография будет в соответствующей книге).
Начало: Шаман – человек, родившийся в русской казацкой семье, член рода, который мигрировал столетия от Ярославля до Тихого океана, воспитанный на стыке культур (российской, культуры коренных народов Севера, культуры азиатского Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония, Индия)), переживший три войны (Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую), несколько революций, коренным образом менявших его образ жизни; много раз женатый (на русской, японке, полячке, украинке, эвелнке…); сидевший в царских и советских тюрьмах, зонах и лагерях, сменивший множество образов жизни…
Шаман (Петр Павлович по первому имени) родился, кажется, в 1896 году одиннадцатым ребенком (младший) в семье ленского (якутского) казака. Дед имел родовые грамоты еще от енисейских казаков, и семья до конца XIX века было освобождена от всех налогов и пошлин. А какой-то из прадедов пришел в Сибирь еще с ватагой Ермака Тимофеевича.
В Петины семь лет дед открыл один из сундуков и дал поиграть с семейными оружейными реликвиями: чуть изогнутая у конца почти метровая шашка из сероватой стали с длинной деревянной рукоятью в деревянных же обшитых кожей ножнах; чуть меньше половины длины шашки кинжал; еще вдвое короче кинжала четырехгранный тяжелый наконечник пики и метровый метательный дротик с трехгранным наконечником. Была раньше и пищаль, но ее утопил в болоте во время охоты один из многочисленных дедовых братьев (дядьев Пети). Самого еле успели вытащить.
В попытке махнуть лихо шашкой Петя не удержал ее, и шашка врезалась в деревянный подоконник-колоду, оставив глубокую отметину. Прибежавший на шум дед, вопреки ожиданиям, не ругался, но оружие отобрал и спрятал опять в сундук «до поры до времени». Тогда же и сказал он запомнившуюся, отчасти из-за непонятности в детстве, мальчику фразу: «Лихость без ума как …уй без шаров».
Семья была дружной и работящей. Огромный огород, лес и Лена – река-кормилица трудиться заставляли, зато пищей надежно обеспечивали. В самые тяжелые военные годы (Великая Отечественная война) картошку сажали, конечно, не целиком, а глазками[10], но рыба и мелкая дичь не переводились. Лет с шести-семи сыновья и дочери включались в хозяйство, начиная по малолетству участвовать в прополке-окучивании картофеля, пастьбе-кормлении кур и гусей, присмотре за кроликами, ловле-обработке рыбы, сборе-заготовке урожая, кормов, ягод-грибов и других дикоросов.
Женились тогда рано по нынешним меркам, в 15–17 лет. В год рождения Пети его старшая сестра (30 с небольшим) была уже бабушкой, а ее внучке – племяннице младенца Пети по родовому дереву – было 13 лет. Она (племянница Пети) и нянчила новорожденного маминого брата («дядю» Илью), засматриваясь уже на парней.
Лет в восемь-девять, глядя на эту взрослую женщину – свою племянницу, – Петя впервые призадумался над относительностью и возраста, и статуса.
Огородом и живностью, кроме периода посадки-уборки, занимались, в основном, женщины и младшие. В подростковом возрасте сыновья больше занимались рыбалкой, охотой, засаливая на зиму бочонки тагунка (мелкая рыбешка в Лене и озерах) и разнорыбицы, внося разнообразие в семейный стол то жирной стерлядью, то птицей или зайцем. Рыба ловилась весь год, а в период осенней шуги и весеннего ледохода, когда любую снасть срывало льдами, подлавливали, кому надо, на озерах лесных и даже в болотных бочажках иногда.
Шкурки и сухожилия зайцев и прочей мелочи шли на разнообразные варежки-завязки-поделки. Зимой охотились и взрослые. Меха песца, волчьи, оленьи и медвежьи шкуры приносили рублевый доход, который, однако, в семье был лишь дополнительным приработком.
Нужно было одеваться-обуваться, учить младших, давать старшим сынам наделы с избой, а дочерям приданное. Отец со старшими сыновьями и мужьями дочерей радели на государевой службе: обслуживали судоходный фарватер (обозначаемый бакенами) на пару сотен верст вверх и вниз от Киренска. Получал каждый небольшой, но твердый царев оклад – доход. А с 1911 года был даже совсем редкий по тем временам государев же угольный паровой катерок, а с ним и приработок на перевозке-буксировке людей, небольших грузов и лодок. Походы на дальние участки, снятие на зиму, установка в навигацию бакенов и другая работа, особенно после ледоходов и разливов с неизбежным замыванием леса, занимали по несколько дней: отец и старшие братья часто отсутствовали. Приходили, топили баню – и опять на фарватер.
Семья считалась зажиточной и уважаемой. Сыновей обучали, и Петя окончил двухклассную (4 года) церковно-приходскую школу. Учителя особо отмечали его успехи в освоении Слова Божия, арифметики и истории.
С пятнадцати Петр начал работать с отцом на фарватере, а в шестнадцать оформлен был с казенным окладом в бригаду бакенщиков вместо ушедшего охотником в армию старшего брата.
Дед уже заговаривал, прикидываясь простоватым по старости, о женитьбе, но у Петра были свои планы: урывками, он упорно читал-осваивал гимназические учебники математики и ждал семнадцатилетия, чтобы записаться в вольноопределяющиеся.
Все в небольшом Киренске (7 тыс. км от Москвы) чувствовали и знали, что война с немцами будет нешуточная. Хоть и невелик курс истории в церковно-приходской школе, но все же знали, что с начала истории Запад всегда нападал. В начале XVII века – поляки, в начале XVIII века – шведы, в начале XIX века – Наполеон (французы), вот и XX век напряженно начинался.
Романтизма было немного. Петр знал вполне определенно, что служба государева была для него единственным тем, что сегодня называется «социальным лифтом». В царевы времена ушедший с военной службы офицер поступал на гражданскую службу сразу с аналогичным чином по табели о рангах, а годы на воинской службе засчитывались в стаж госслужащего. Рассчитывал Петр, что его, как окончившего школу, почти сразу произведут в унтер-офицеры (что и произошло), а зная свою силу, сметку и меткость охотничью, полагал, что и звание подпрапорщика по военному времени не задержится, а там и полноценный офицерский чин. Но вот зачем ему это, не знал пока.
В Якутске команда призывников и добровольцев ждала баржи четыре дня до буксировки по Лене на юг и «до железки»[11]. Вольноопределяющиеся и призывники от скуки перелезали через невысокий забор сборного пункта и добирались до города перебежками через сборный пункт каторжан. Конвоиры их легко отличали по возрасту и по экипировке и старались не связываться с будущими служивыми «детьми тундры и тайги», лишь беззлобно ворча в усы: «А вот отправлю тебя вместе с этими на этап».
Раз Петр задержался возле сбежавшего, пойманного и побитого «за беспокойство» конвоем каторжанина. Тот сидел на высушенной солнцем до трещин земле, прикрыв голову руками, и громко говорил частью конвоирам, а частью проходящему мимо юноше: «За вашу же волю от супостата страдаю». Удивило, что пожилые (с точки зрения Петра – им под тридцать уже было) конвоиры не собирались заступаться словесно за царя-батюшку и не злобились, а, скорее, избегали дискуссии. «Чем же царь волю-то мою ограничивает, я же воевать еду за него?» – хотелось спросить Петру, но прошел мимо. А незаданный вопрос запомнился.
Вопрос этот (зачем?) иногда забывался. Иногда же так остро звучал в сознании, чтоПетр переплывал в лодке Лену (там ширина примерно 3 км) и подолгу сидел ночью, наслаждаясь уединением на безлюдном берегу, пока не «отпускало» напряжение и не вставали опять перед затуманенным взором далекие огни ночного Якутска за рекой.
Тогда не знал еще Петр, что это были первые проявления шаманской болезни, которые, однако, ни с кем не обсуждал, догадываясь о необычности таких состояний.
Как охотник-сибиряк Петр зачислен был в полк сибирских стрелков и в атаку штыковую или на пулемет цепью во время своей недлинной службы не ходил. Стрелков метких берегли, и полк перебрасывали для обороны в места ожидаемых прорывов. У каждого отделения была составленная офицером карточка сектора огня (Петр не видел в таких карточках ничего сложного, просто разбита линия обороны на сектора), а уж в своем секторе, кто из наступавших немцев чей, решали сами или изредка советовались с унтером. В первые месяцы, пока не начали опомнившиеся вороги артиллерийскую охоту на сибирский полк, потерь почти не было.
Окончивший церковно-приходскую школу Петр собирался быстро стать унтером и тактикой ведения боя интересовался. Составлять карточку огня для отделения командир почти сразу же перепоручил ему. Делить линию обороны на сектора для каждого стрелка с учетом рельефа было довольно просто. Да и взводные, и ротные сектора составлять ротный научил Петра довольно быстро, почти передоверив ему обход позиций. В роте все понимали, что и глаз у молодого сибиряка «позорчее», чем у ротного, и ноги пошустрее. Чем могли, Петру помогали, делились наблюдениями и кое-каким опытом.
О душах врагов убиенных старались не думать, списывая на Защиту Отечества. До рукопашной не доходило, так как одним залпом сибирские стрелки клали обычно почти всю наступающую немецкую цепь. Оставшиеся в живых немцы после первого же залпа понимали, кем заменили в окопах перед ними обычных солдат, и спешили убраться, уползти побыстрее.
10
Кусочек целой картофелины с наклюнувшимся ростком.
11
Железная дорога.