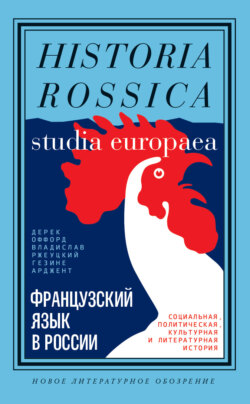Читать книгу Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история - Владислав Ржеуцкий - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Исторический контекст русской франкофонии
Знакомство с иностранными языками в России XVIII века
ОглавлениеПриобщение России к западной культуре и ее практикам неизбежно влекло за собой знакомство с живыми западноевропейскими языками: голландским, английским, французским, немецким, итальянским, – о которых практически не имели представления жители Московии XVII века, где еще не существовало университетов[225]. Эти языки служили посредниками, позволявшими русским людям XVIII века получать информацию о темах, которые теперь представляли для них живой интерес: оружие, военная стратегия, кораблестроение, навигация, фортификация, гражданская архитектура, математика, медицина, государственное управление, налогообложение, горное дело, промышленное производство, педагогика, география, история, литература, светское общество, одежда, кухня, вкусы, мода и способы проводить досуг. Возникла большая потребность в знающих иностранные языки людях, которые могли бы познакомить русских с огромным количеством печатных источников, содержавших сведения об этих практических вопросах, не говоря уже о литературном, художественном и музыкальном наследии Запада. Задача была непосильной, и, если русские хотели приобщиться к этому широкому полю информации, у них не оставалось иного выбора, кроме как научиться читать эти источники в оригинале или в переводе на язык-посредник, которым чаще всего в XVIII веке был французский. Во всяком случае, чтобы общаться с иностранными военными, моряками, инженерами, архитекторами, дипломатами, врачами, учеными и учителями, которые наводнили обновленную Россию после 1700 года, русским требовалось умение разговаривать на других европейских языках, так как мало кто из этих иностранцев говорил по-русски. Для того чтобы получить образование за рубежом, русский человек также должен был хорошо владеть языком страны, в которую направлялся, или, по крайней мере, одним из широкоупотребительных международных языков того времени, например латинским, французским или немецким.
Однако нарастающая коммуникация между Россией и Западом в XVIII веке развивалась не только в одном направлении, и иностранные языки были необходимы не только для того, чтобы запустить процесс восприятия иностранной культуры – процесс, который в дальнейшем, особенно в XIX веке, сформировал особую русскую культуру Нового времени. Знание иностранных языков дало русским еще и возможность изменить представления западных людей о своей стране, представив им образ государства, радикально отличавшийся от того, что те могли обнаружить в текстах Герберштейна, Флетчера, Олеария, равно как и других авторов, которые сами не бывали в России, но с готовностью воспроизводили негативные стереотипы[226]. Послепетровская Россия позиционировала себя как «европейская держава» – эти слова можно встретить в «Наказе» Екатерины II[227], – которой правит просвещенный монарх. В течение XVIII столетия российский двор и элита добивались, чтобы другие европейцы признали Россию цивилизованным членом их сообщества. Владение самыми широкоупотребительными языками этого сообщества было важным условием для такого признания, оно давало Российской империи право претендовать на столь же высокий статус в культурной сфере, который она обеспечила себе в сфере дипломатической благодаря военным успехам. Владение этими языками позволило русским писателям войти в европейские литературные круги и познакомить западную публику со своим творчеством как посредством переводов, так и в личной переписке на языке, понятном иностранным читателям. Таким образом, новоприобретенная способность русских говорить на иностранных языках и активно использовать их сильно изменила восприятие России другими народами и самовосприятие русских как на национальном, так и на личном уровне[228].
Многие иностранные языки появились в России в XVIII веке, когда монархи пытались вывести государство на путь ускоренной модернизации, русские дворяне перенимали западные практики и показывали западному миру новый образ своей страны, а количество торговых и личных контактов с Западом увеличилось благодаря участившимся путешествиям русских за границу и иностранцев в Россию. Голландский – язык великой морской державы, флот и коммерческие достижения которой произвели огромное впечатление на Петра, – был полезен в сфере судостроения, что подтверждают языковые заимствования того времени[229]. Немецкий язык находил применение во многих практических сферах, таких как металлургия, горное дело и медицина[230]. На протяжении большей части XVIII века ему обучали так же активно, как и французскому, а в некоторых учебных заведениях немецкому уделяли даже больше внимания, чем французскому языку[231]. Немецкий широко использовался в Академии наук, где большинство ученых в первое время были выходцами из немецкоговорящих стран[232]. В екатерининскую эпоху этот язык осваивали наиболее талантливые студенты, которых отправляли учиться в университеты Германии. И что самое главное, немецкий был родным языком значительной части российской имперской элиты, особенно семей из прибалтийского региона, оказавшегося под властью Российской империи в результате расширения ее границ в XVIII веке. (Прибалтийско-немецкие семьи проявляли исключительную преданность российской императорской власти и снабжали ее огромным количеством военного и гражданского персонала, что особенно впечатляет, если учесть, насколько незначительную часть от общего населения империи составляло это сообщество.) Итальянский также стал частью языкового репертуара некоторых русских дворян, что отчасти объясняется его важной ролью в сфере изобразительных искусств (итальянскому обучали, например, студентов Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге) и его первостепенным значением для музыки, которое не было утрачено даже после того, как французский занял доминирующее положение в других сферах европейской культуры. Кроме того, в Средиземноморском регионе итальянский был важным языком дипломатии, так как служил lingua franca в деловых контактах европейцев с турецким двором[233]. К английскому языку некоторые группы русского дворянства также относились с уважением, особенно высоко он ценился в конце XIX века людьми, которые желали продемонстрировать свое социальное превосходство, однако при этом он не имел первостепенного значения, как можно было ожидать, учитывая существенную роль дипломатических и торговых контактов Британии с Россией в XVIII веке и англоманию, периодически возникавшую в среде русского дворянства, особенно в начале XIX столетия[234]. Латынь тоже использовалась в России XVIII века, она была языком учености в Академии наук, на латыни составлялись девизы и надписи (например, надпись на постаменте медного всадника в Санкт-Петербурге – памятника, воздвигнутого Екатериной II Петру I)[235].
Несмотря на то что к моменту смерти Петра Великого в 1725 году французский уже, по всей видимости, стал основным языком международной коммуникации в Европе и на то что к этому времени российская элита начала высоко ценить знание иностранных языков, люди, принадлежавшие к этой элите, не отдавали предпочтение французскому перед другими упомянутыми выше языками вплоть до середины XVIII века. Однако во второй половине столетия симпатии русской аристократии уже оказались полностью на стороне французского языка и французской культуры. По замечанию Д. Дидро, в Европе не было нации, которая поддалась бы французскому влиянию – в отношении как языка, так и поведения – столь же быстро, как русская[236]. Несомненно, одной из причин доминирования французского в России послужило то, что императрица Елизавета Петровна, которая с детства при дворе Петра училась этому языку у француженки, прекрасно им владела[237]. Более того, в начале правления Елизаветы французский язык был важен для нее в политическом смысле: он позволил ей дистанцироваться от немецкоговорящих претендентов на престол после смерти императрицы Анны Иоанновны в 1740 году, а впоследствии сформировать двор, принципиально отличавшийся от двора Анны Иоанновны, фавориты которой, столь ненавистные Елизавете, и главные государственные деятели (Э. И. Бирон, Х. А. Миних и А. И. Остерман) были немцами[238]. Однако и после этого Елизавета Петровна не переставала отдавать предпочтение французскому языку. Во времена ее правления при дворе французские театральные труппы часто играли французские комедии[239], а посетивший Россию в 1755 году француз Ла Мессельер заметил, что придворные там говорят по-французски «comme à Paris» (как в Париже)[240]. В середине века владение французским и привычку говорить дома на этом языке можно было наблюдать в некоторых дворянских семьях (например, у Воронцовых, Шуваловых, Разумовских), чьи представители были приближенными Елизаветы Петровны и сделали весьма успешные карьеры во времена ее правления[241].
Кроме важной роли, которую французский язык играл в придворной жизни, были и другие факторы, способствовавшие его распространению в среде элиты в середине столетия. Два автора, творчество которых имеет важное значение для истории русской литературы XVIII века, – поэт, автор трактатов о стихосложении и переводчик Василий Кириллович Тредиаковский и сатирик и дипломат Антиох Дмитриевич Кантемир – провели долгое время в Париже: первый в 1727–1730 годах учился в Сорбонне, а второй с 1738 года до своей кончины в 1744 году руководил российской дипломатической миссией. Возможно, их знакомство с французским языком обусловило то, что недавно сформировавшееся в России литературное сообщество уже в начале своего существования обратило внимание на Францию. В любом случае именно у французской литературы русские авторы XVIII века, заложившие основы национальной светской литературы, переняли принципы эстетической парадигмы классицизма и заимствовали основные жанровые модели. На политическом уровне хорошие дипломатические отношения между Россией и Францией установились в начале Семилетней войны (1756–1763), которая стала поворотным моментом, когда Россия начала активно позиционировать себя как ведущая европейская держава. Тот факт, что Екатерина II, взошедшая на престол после краткого периода правления ее мужа Петра III, который унаследовал трон после смерти Елизаветы Петровны в 1761 году (или в начале 1762 по новому стилю), сама была иностранкой, также способствовал тому, чтобы обратить взгляды русских на западный мир, где французская культура была в большом почете[242].
Однако среди всех причин, по которым французский стал самым важным иностранным языком в среде российской элиты XVIII века, основной, вероятно, было то, что дворяне из смирных слуг всемогущего монарха превратились в членов сообщества, обладающего самосознанием и собственной инициативой. Будучи главной силой, с помощью которой власть проводила процесс вестернизации России, дворяне (по крайней мере, высшее и отчасти среднее дворянство) подражали европейцам и учились у них тому, как, в том числе с помощью речи, можно было демонстрировать свою принадлежность к определенной социальной группе. Начиная с середины XVIII века владение французским стало важнейшим навыком, необходимым для улучшения или поддержания своего положения в обществе, и дворяне были готовы вкладывать много сил и ресурсов в изучение этого языка, стремясь к тому, чтобы их дети приобрели культурный капитал (термин П. Бурдье), который впоследствии мог быть преобразован в капитал материальный, так как знание французского было необходимо для того, чтобы занимать высокие посты и добиться успеха при дворе и в высшем обществе. Однако прежде чем подробнее рассмотреть эту социальную трансформацию и проанализировать ее влияние на культуру, мы должны сделать два замечания о распространении французского языка в среде русского дворянства XVIII века.
Во-первых, процесс перенесения практик и продуктов западной культуры в Россию происходил при участии множества посредников разных национальностей, что не удивительно, принимая во внимание огромное количество социальных и культурных изменений, которые претерпела российская элита. Если говорить о французах или франкоязычных посредниках, то среди них были дипломаты из аристократических семей, такие как барон Мари-Даниэль Бурре де Корберон и Луи-Филипп граф де Сегюр, другие члены высшего дворянства, такие как принц Шарль-Жозеф де Линь, и такие европейские интеллектуалы, как энциклопедист Дени Дидро, родившийся в Регенсбурге и живший долго в Париже журналист и художественный критик Фридрих Мельхиор Гримм, будущий писатель и представитель предромантизма Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер и будущий историк Пьер-Шарль Левек. Возможности сбыта товаров в России, появившиеся с развитием у российского дворянства новых вкусов, привлекали многих франкоязычных эмигрантов различных профессий. Среди них были издатели и книгопродавцы[243], удовлетворявшие спрос на иностранную литературу и западную периодику, торговцы галантерейными товарами, портные, модистки, парикмахеры, парфюмеры, мебельщики, виноторговцы, повара, кондитеры и другие специалисты. Представить себе разнообразие коммерческих задач, решением которых занимались такие посредники, и, как следствие, степень обновления русской материальной культуры можно, обратившись к перечню товаров, привезенных в 1747 году из Руана в Санкт-Петербург французским гугенотом Жаном Дюбиссоном, который был известен в основном как виноторговец, но при этом явно учитывал спрос на другие продукты. Среди его товаров были дамские гарнитуры, мантильи, костюмы для маскарадов, шляпы, кресла, канапе, комоды, зеркала, щетки, трости, кисти, темляки на шпаги, чулки, пудра, гребни, гвозди, булавки, иглы, чернильницы и многое другое[244]. Французский дипломат Ла Мессельер с ужасом заметил, что «у многих знатных господ живут беглецы, банкроты, развратники, и немало женщин такого же рода, которые, по здешнему пристрастию к французам, занимались воспитанием детей значительных лиц»[245]. Все, кто приезжал или эмигрировал в Россию, каковы бы ни были их происхождение или личные мотивы, побудившие их отправиться туда, были прямо или косвенно причастны к распространению французского в этой стране. Многие из них, независимо от педагогической квалификации, становились преподавателями в таких учебных заведениях, как Сухопутный шляхетный кадетский корпус (основан в Санкт-Петербурге в 1731 году), в разного рода пансионах, появившихся в Санкт-Петербурге и Москве, или устраивались учителями и гувернантками в дворянские дома[246].
Во-вторых, энтузиазм, с которым дворянство осваивало иностранные культурные практики и использовало западные товары, заставляет нас задуматься о том, в какой степени вестернизация XVIII века, по крайней мере в сфере культуры, была продиктована обществу императорской властью. Есть основания предполагать, что в петровскую эпоху вестернизация во всех сферах в основном насаждалась свыше и была обусловлена волей государя, а не духом предпринимательства и любознательностью членов общества. Здесь можно вспомнить упомянутый Е. В. Анисимовым принцип Петра Великого: «Прогресс достигается насилием»[247]. Однако в период после смерти Петра дворянство стало более независимым в интеллектуальном и культурном отношении. По замечанию И. И. Федюкина, вследствие изменения представлений о человеческой природе дворяне в глазах государства (как и в своих собственных) превратились в сословие, представители которого благодаря «наличию у них амбиций и честолюбия могли претендовать на право самостоятельно распоряжаться своими собственными жизнями и участвовать в принятии решений касательно общего блага». Честолюбие и «анкуражирование» гораздо сильнее, чем принуждение, способствовали тому, что дворяне из слуг превратились в автономных субъектов[248]. Таким образом отдельные люди, как и государство в целом, начали проявлять инициативу в важных вопросах[249]. Деятельность дворянства, безусловно, не противоречила ориентированной на Запад политике власти или «государственному проекту европеизации», если воспользоваться выражением А. Шёнле и А. Л. Зорина[250]. Однако со временем дворянам на пути к изменениям уже больше не требовалось (или почти не требовалось) поощрение власти, особенно в таких сферах, как образование детей, развитие определенных форм социальных отношений и речевого поведения. Свидетельства, к которым мы обратимся, демонстрируют, насколько восприимчивым русское высшее дворянство было по отношению к западным идеям и культуре и насколько сильно вследствие этого обогатилась культурная жизнь общества, что невозможно объяснить только лишь стремлением дворянства исполнить волю властей. В частности, серьезные и настойчивые попытки овладеть иностранными языками, находившие выражение в том воспитании, которое дворяне по возможности давали своим детям, приводят нас к мысли о том, что формирование по-европейски образованной, но патриотически настроенной элиты не было просто учреждено повелением сверху, а согласовалось с желаниями и стремлениями дворянства. Более того, считается, что государство само поощряло «личную инициативу, при этом навязывая дворянству политические обязанности – участие в управлении страной»[251], о чем мы подробнее поговорим в следующем разделе.
225
Опыт посещения русским посольством Франции в 1668 году ярко демонстрирует, насколько плохо русские знали французский язык и как это обстоятельство могло ослабить положение русских дипломатов. См.: Schaub M.-K. Avoir l’ oreille du roi: l’ ambassade de Pierre Potemkine et Siméon Roumiantsev en France en 1668 // Andretta S. (Dir.) Paroles des négociateurs. Entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Age à la fin du XIXe siècle. Rome, 2010. P. 213–228, особенно p. 220–221. О том, как улучшилось знание языков в русском дипломатическом сообществе в конце XVII и в XVIII веке, см. в первых трех разделах главы 5.
226
См., напр., «Московию» Дж. Мильтона, текст, написанный в середине XVII века. В своем произведении Мильтон в значительной степени опирался на описание Дж. Флетчера.
227
[Екатерина II]. Наказ Комиссии о составлении проекта нового уложения. М., 1767.
228
Об использовании иностранных языков, в частности французского, с целью создать у европейских читателей определенный образ России см. в главе 7.
229
Из голландского в русский язык перешли такие слова, как «гавань», «дрейф», «матрос», «штурман», «верфь».
230
См.: Dahmen K. The Use, Functions, and Spread of German in Eighteenth-Century Russia // The Russian Review. 2015. 74:1. P. 20–40.
231
См.: Rjéoutski V., Offord D. French in Public Education in Eighteenth-Century Russia: The Case of the Cadet Corps. URL: https://data.bris.ac.uk/datasets/3nmuogz0xzmpx21l2u1m5f3bjp/Cadet%2 °Corps%20introduction.pdf.
232
См. последний раздел главы 5.
233
См.: Cremona J. Italian-based Lingua Francas around the Mediterranean // Lepschy A. L., Tosi A. (Eds). Multilingualism in Italy Past and Present. Oxford, 2002. P. 24–30; Varvaro A. The Maghreb Papers in Italian Discovered by Joe Cremona // Lepschy A. L., Tosi A. (Eds). Rethinking Languages in Contact: The Case of Italian. Oxford, 2006. P. 146–151; Bély L. L’ Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe—XVIIIe siècle. Paris, 2007. P. 411.
234
См.: Cross A. G. English – a Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? // The Russian Review. 2015. 74:1. P. 57–68.
235
См.: Воробьев Ю. К. Латинский язык в русской культуре XVII–XVIII веков. Саранск, 1999; Ржеуцкий В. Латинский язык в дворянском образовании в России XVIII века // Неолатинская гуманистическая традиция и русская литература конца XVII – начала XIX в. / Под ред. А. Костина. СПб., 2018. С. 228–251.
236
См.: Dulac G., Karp S. (Eds). Les Archives de l’ Est et la France des Lumières. Guide des Archives et inédits. Vol. 2. Ferney-Voltaire, 2007. Vol. 1. P. vi.
237
См.: Anisimov E. V. Empress Elizabeth: Her Reign and Her Russia 1741–1761 / Ed., transl. and with a preface by John T. Alexander. Gulf Breeze, 1995. P. 10.
238
Э. И. Бирон требовал, чтобы вся адресованная ему корреспонденция была на немецком языке. См.: Rogger H. National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1960. P. 93. Однако не стоит переоценивать различия в языковой практике при дворе в правление Анны Иоанновны и в царствование Елизаветы Петровны. Немецкие фавориты и государственные деятели Анны Иоанновны знали французский и часто пользовались им по долгу службы. Более того, именно Анна Иоанновна впервые пригласила ко двору французскую театральную труппу (из Германии).
239
См. второй раздел главы 3 и работу А. Г. Евстратова, на которую мы в нем ссылаемся.
240
Цит. по: Cross A. (Ed.). Russia under Western Eyes, 1517–1825. London, 1971. P. 194.
241
Подробнее о Михаиле Илларионовиче Воронцове и Иване Ивановиче Шувалове, франкоязычных придворных Елизаветы Петровны, см. в: Anisimov. Empress Elizabeth. P. 211–230. И. И. Шувалов стал фаворитом Елизаветы в конце 1740-х годов. М. И. Воронцов во времена ее правления занимал посты вице-канцлера и канцлера. Об иностранных языках в семье Воронцовых см.: Tipton J. Multilingualism in the Russian Nobility: A Case Study on the Vorontsov Family. PhD thesis for the University of Bristol, 2017.
242
Подробнее о французском языке в екатерининскую эпоху см. во втором и третьем разделах главы 3.
243
Подробнее о них см.: Rjéoutski V. Les libraires français en Russie au Siècle des Lumières // Histoire et civilisation du livre: revue internationale. 2012. 8. P. 161–183.
244
См.: Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII века. М., 2005. С. 193–194.
245
Записки г. де ла Мессельера о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года // Русский архив. 1874. Кн. 1. Вып. 4. Стб. 952–1031.
246
О частных школах см.: Rjéoutski V. Les écoles étrangères dans la société russe à l’ époque des Lumières // Cahiers du monde russe. 2005. 46:3. P. 473–528.
247
Так звучит подзаголовок английского издания книги Е. В. Анисимова: Anisimov E. V. The Reforms of Peter the Great: Progress through Coercion in Russia / Transl. and with an introduction by John T. Alexander. Armonk; N. Y.; London, 1993.
248
Fedyukin I. From Passions to Ambitions. Human Nature and Governance from Peter I to the Emancipation of the Nobility // Schönle, Zorin, Evstratov (Eds). The Europeanized Elite in Russia 1762–1825. P. 26–45, здесь p. 26, 41–44.
249
См., напр.: Федюкин И. И., Лавринович М. Б. (Ред.). «Регулярная академия учреждена будет…». Образовательные проекты в первой половине XVIII века. М., 2015.
250
А. Шёнле и А. Л. Зорин так определяют роль дворянства в этом процессе: «демонстрация величия Российской империи на международной арене в военной или дипломатической сфере, участие в управлении империи, распространение в обществе европейского этикета и изысканных манер, содействие распространению знаний и образования, основание новых институтов, испытание новых технологий и тому подобное» (Schönle A., Zorin A. Introduction // Schönle, Zorin, Evstratov (Eds). The Europeanized Elite in Russia. P. 1–22, здесь p. 9–10).
251
Здесь и далее – цитаты по Ibid. P. 7. Шёнле и Зорин, по их словам, стремятся таким образом «возвратить элите некоторую степень свободы воли, несмотря на внешнее раболепство перед монархом» (Ibid. P. 15). Также они подчеркивают «первостепенное значение воспитания», которое должно было привить дворянству «внутреннюю потребность служить монарху» (Ibid. P. 6–7). Мы полностью разделяем эту точку зрения, и именно поэтому мы поместили главу об обучении французскому языку почти в самом начале своей книги. Образование было важнейшим инструментом происходившей в России модернизации, которая, по замечанию Шёнле и Зорина, воспринималась «как важный шаг к просвещению, понимаемому в основном с точки зрения универсализма» (Ibid. P. 2). Стоит добавить, что та часть российской аристократии, самооценка которой определялась высоким уровнем культуры (а не, скажем, родовитостью, богатством или заслугами), не могла не испытывать уважения к образованию, в особенности к такому образованию, важнейшей частью которого было обучение иностранным языкам, открывавшим доступ к культурным моделям, которые вызывали у представителей этой группы особое восхищение.