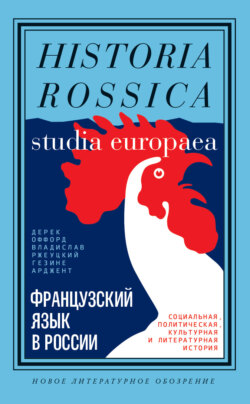Читать книгу Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история - Владислав Ржеуцкий - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Исторический контекст русской франкофонии
Наполеоновские войны и восстание декабристов
ОглавлениеВоенные действия между Францией и Россией во времена Наполеона начались в 1799 году, при правлении Павла I, когда Россия присоединилась ко Второй коалиции против Франции, и возобновились в 1805–1807 годах при Александре I. Армии России и Австрии были разбиты Наполеоном в декабре 1805 года в битве при Аустерлице. Следующим крупным сражением между наполеоновской армией и силами России и Пруссии была битва при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии, которая состоялась в феврале 1807 года. (Эта битва не принесла победы ни одной из сторон.) В июне того же года Наполеон одержал решительную победу над русской армией при Фридланде, также в Восточной Пруссии. Военные действия на время прекратились в связи с заключением в июле 1807 года Тильзитского мира, в результате которого Россия и Франция стали союзниками, а Александр I тайно согласился присоединиться к наполеоновской континентальной блокаде против Великобритании. Однако в следующие годы Александр не поддерживал политику Наполеона, и отношения между Россией и Францией опять ухудшились. В июне 1812 года войска Наполеона вторглись в Россию. В последовавшей за этим борьбе русской армии под командованием М. И. Кутузова удалось замедлить, но не остановить продвижение Великой армии Наполеона 7 сентября при Бородино, где развернулась кровавая битва, в которой сражалось около четверти миллиона человек. Неделю спустя Наполеон занял Москву, которая вскоре серьезно пострадала от пожара, предположительно учиненного самими русскими при массовом бегстве из города. Отечественная война завершилась в ноябре – декабре отступлением разрозненных частей наполеоновской армии, солдаты которой страдали от голода, погибали от партизанских атак и не имели экипировки, способной защитить их от суровых русских холодов.
Как и следовало ожидать, военный конфликт с Францией усугубил критический напор, с которым русские писатели и прежде высказывались о галломании своих соотечественников. И действительно, в начале XIX века и позднее в произведениях русских авторов встречаются разнообразные свидетельства о том, что война с Францией остудила страсть, которую русское дворянство питало к французской цивилизации в самом широком смысле слова, и к языку, с помощью которого можно было к ней приобщиться. Галлофобия, выражавшаяся отчасти в критике российской франкофонии, весьма заметна, например, в текстах Ф. В. Ростопчина, который был губернатором Москвы, когда в 1812 году ее заняла Великая армия Наполеона, и который, как предполагали, мог быть ответственен за поджог города[278]. Ф. Ф. Вигель так описывал воздействие, которое оказало на язык высшего общества вспыхнувшее в его рядах накануне Отечественной войны 1812 года чувство патриотизма:
Знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что «Беседа» составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными ее поборницами[279].
Французский театр в Санкт-Петербурге, который часто посещали люди из высшего общества в начале царствования Александра I, «по мере как французские войска приближались к Москве, начал <…> пустеть и, наконец, всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть»[280]. В то время, когда Ф. В. Ростопчин был губернатором Москвы, владелицам модных магазинов в этом городе было запрещено делать вывески на французском[281]. Даже в провинциальной Пензе осенью 1812 года дамы, стараясь продемонстрировать свой патриотизм, «отказались от французского языка. Многие из них <…> оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки»[282]. Л. Н. Толстой изобразил эту реакцию на вторжение Наполеона в Россию на страницах «Войны и мира»: «В обществе Жюли Друбецкой, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований»[283]. А. С. Пушкин, которому, в отличие от Л. Н. Толстого, довелось жить во времена Отечественной войны, также писал в неоконченном романе «Рославлев» о том, что московские дворяне «закаялись говорить по-французски»[284].
Однако подобные жесты были явно демонстративными и через некоторое время сошли на нет, и примечательно, что такие консервативно настроенные патриоты, как Ростопчин, несмотря на свои страстные протесты против французской культуры и русской франкофонии, продолжали говорить по-французски в обществе и пользовались французским в переписке[285]. Кроме того, активное использование французского языка в высоких общественных, военных и официальных кругах в течение долгого времени после 1815 года и та важная роль, которую французский язык продолжал играть в обучении дворянских детей, позволяют предположить, что опыт войны с Францией лишь на незначительное время изменил отношение дворянства к французскому языку и французской культуре. Однако были и другие исторические факторы, которые воздействовали на лояльность некоторых дворян по отношению к власти, раскололи прежде однородную образованную элиту и поставили под вопрос ценности дворянской культуры и связанные с ней практики, включая использование иностранного языка в обществе[286].
Хронологически первым из исторических факторов, на которые следует обратить внимание, было расхождение между самодержавием, с одной стороны, и общественной и культурной элитой, с другой. В XVIII веке дворянство в целом поддерживало имперскую программу российских монархов, несмотря ни на неоднородную структуру сословия, ни на напряжение, существовавшее между входившими в него группами, ни на время от времени возникавшие проявления политической оппозиции, самым ярким из которых было обличение произвола самодержавия и жестокого обращения с крепостными Александром Николаевичем Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790)[287]. Однако в течение нескольких лет после победы над Наполеоном дворянское чувство солидарности с монархическим государством начало очевидным образом ослабевать. После 1815 года Александр I вступил в Священный союз, связавший три консервативные державы (Австрию, Пруссию и Россию), которые стремились поддерживать старые монархические порядки в Европе. В своем государстве он предоставил свободу действий таким реакционно настроенным государственным деятелям, как Алексей Андреевич Аракчеев, который был сторонником строгой дисциплины. После окончания Наполеоновских войн, в 1814–1815 годах, полные прекрасных впечатлений о жизни в Западной Европе русские офицеры, в которых с детства воспитывалось чувство гражданской ответственности, вернулись в Россию. Здесь они с потрясением обнаружили, что их родной стране уготован жребий оставаться в ряду отсталых государств под властью деспотичного монарха. В них укоренилось сильное чувство разочарования, послужившее толчком к основанию после 1816 года нескольких тайных обществ («Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное общество» в Санкт-Петербурге и «Южное общество» на Украине). Произошло возрождение масонства, которое начиная с екатерининской эпохи призывало русских дворян к самосовершенствованию и благотворительности (и к тому же стало прообразом тайных обществ)[288]. Были составлены проекты политических реформ: Никита Михайлович Муравьев разработал подробный план введения конституционной монархии с двухпалатным Народным вечем в качестве основного законодательного органа и федеративным устройством, соотносящимся с американской моделью; Павел Иванович Пестель в незавершенном проекте «Русской правды» предлагал установление авторитарной республики по примеру французской якобинской[289].
Недовольство сложившейся ситуацией и жажда нравственного совершенствования и политических изменений – на которые Л. Н. Толстой намекает в первой части эпилога к «Войне и миру»[290] – в конечном итоге нашли выражение в совершенно непродуманном восстании, которое вошло в историю как восстание декабристов. 14 декабря 1825 года, вскоре после внезапной кончины Александра I, офицеры из «Северного общества» и около 3000 присоединившихся к ним человек отказались присягнуть на верность Николаю I, к которому перешли права на престол после отречения его старшего брата Константина. К концу дня верные государю войска обстреляли солдат, собравшихся на Сенатской площади Санкт-Петербурга, и разогнали их. Было проведено долгое расследование, в результате которого пятеро лидеров восстания в Санкт-Петербурге и последовавшего вскоре после него восстания, организованного «Южным обществом», были повешены, а более ста других участников мятежа приговорены к каторжным работам, ссылке и разжалованию в солдаты. Несмотря на то что среди декабристов были люди разного происхождения[291], многие из лидеров восстания принадлежали к семьям, занимавшим весьма высокое положение в российском обществе. Декабристами были, например, князья Евгений Петрович Оболенский, Сергей Петрович Трубецкой и Сергей Григорьевич Волконский (его мать была фрейлиной при дворе), барон Вениамин Николаевич Соловьев, граф Захар Григорьевич Чернышев, а также братья Матвей Иванович и Сергей Иванович Муравьевы-Апостолы, сыновья дипломата, и П. И. Пестель, отец которого с 1806 по 1816 год был генерал-губернатором Сибири. Участие в восстании членов таких благородных семейств и сочувствие, которое проявляли к мятежникам члены других семей, прямо не причастных к мятежу, были знаком того, что монархия оказалось под угрозой утраты морального авторитета[292].
Мир, в котором жили эти члены имперской элиты, был многонациональным и многоязычным. Братья Муравьевы-Апостолы в детстве учились в частном пансионе в Париже. Во время Наполеоновских войн члены тайных декабристских обществ нередко вступали в контакты с французами и француженками. С. П. Трубецкой был женат на дочери французского иммигранта. Н. М. Муравьев дома разговаривал по-французски, хотя жена его была русской. Следует отметить, что некоторые декабристы не были этническими русскими, а для кого-то из них русский не был родным языком. Например, братья Поджио, Александр Викторович и Иосиф Викторович, были сыновьями итальянца, переселившегося в многоязычную и многонациональную Одессу, а Андрей Евгеньевич фон Розен принадлежал к немецкоговорящей семье прибалтийского дворянства. И хотя они вдохновлялись событиями, происходившими в других странах (испанская революция 1820 года, направленная против реставрировавшего монархию Фердинанда VII, Греческая война за независимость от Оттоманской империи, которая началась в 1821 году), декабристы имели склонность к культурному национализму, вследствие чего некоторые из них (например, Николай Александрович Бестужев, П. И. Пестель и С. Г. Волконский) придавали значение речевому поведению[293]. Таким образом, к концу правления Александра I часть социальной элиты дистанцировалась от двора, причем не только в отношении политики. В годы правления последующих монархов это разочарование подпитывалось недовольством более общего характера, которое испытывали широкие круги образованной элиты, чей социальный состав менялся в результате вхождения в нее людей недворянского происхождения, которых все больше и больше привлекали для решения самых разных задач, встающих перед модернизирующимся государством и быстро расширяющейся империей.
278
О взглядах Ф. В. Ростопчина мы подробнее поговорим в пятом разделе главы 8.
279
Вигель. Записки. Т. 1. С. 359–360. В этом фрагменте Ф. Ф. Вигель упоминает «Беседу любителей русского слова», консервативное литературное общество, основанное в 1811 году в Санкт-Петербурге (о нем см. также в главе 8).
280
Вигель. Записки. Т. 2. С. 54.
281
Tourgueneff. La Russie et les russes. Vol. 1. P. 14.
282
Вигель. Записки. Т. 2. С. 21.
283
Война и мир // Толстой. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 177.
284
Рославлев // Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 8. Ч. 1. С. 153. См. также: Offord D. Treatment of Francophonie in Pushkin’s Prose Fiction // Offord, Ryazanova-Clarke, Rjéoutski, Argent (Eds). French and Russian in Imperial Russia. Vol. 2. P. 197–213, здесь p. 209.
285
Как отмечает Ю. М. Лотман, рост патриотических чувств, характерный для русской дворянской культуры в конце XVIII – начале XIX века, «не вступал в противоречие со столь же бурным процессом распространения французского языка» среди дворян. Об этом парадоксе (правда, большая часть дворян, судя по всему, не видела ничего парадоксального в таком положении вещей) см.: Лотман Ю. М. Русская литература на французском языке // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 2. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. С. 353. О французских текстах Ф. В. Ростопчина см. в пятом разделе главы 6. О взглядах на язык других консервативных националистов см. главу 8, где рассматривается мнимое противоречие между языковой галлофобией и реальной языковой практикой.
286
Lieven. The Aristocracy in Europe. P. 5–6.
287
Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А. Н. Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. М.; Л., 1938. С. 225–392.
288
См.: Rjéoutski V., Offord D. Foreign Languages and Noble Sociability: Documents from Russian Masonic Lodges. URL: https://data.bris.ac.uk/datasets/3nmuogz0xzmpx21l2u1m5f3bjp/Free_masonry%20introduction.pdf, к этой работе мы еще обратимся в главе 4. Основные работы о масонстве перечислены в главе 4 в прим. 3 на с. 274.
289
См. текст «Конституции» Н. М. Муравьева и «Русской правды» П. И. Пестеля в: Восстание декабристов: В 23 т. М., 1925–. Т. 7.
290
См. главу 14 в: Толстой. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 281–286.
291
Об этом см.: Grandhaye J. Les décembristes: Une génération républicaine en Russie autocratique. Paris, 2011. P. 47–52.
292
Существует большое количество литературы о декабристском восстании, которое считается началом истории революционного движения в России. Для знакомства с этой темой и предысторией восстания можно обратиться к довольно старым работам Mazour (1962) и Raeff (1966). Существует также относительно новое исследование на французском языке: Grandhaye (2011). Патрик О’Мара написал весьма содержательные биографии Кондратия Федоровича Рылеева и П. И. Пестеля (O’Meara 1994, 2004). Значительный интерес представляют работы Николая Михайловича Дружинина о Н. М. Муравьеве (1985) и Милицы Васильевны Нечкиной о П. И. Пестеле (1955, 1982).
293
Подробнее о Н. А. Бестужеве и о том, как изменилось языковое сознание после Наполеоновских войн, см. в пятом разделе главы 8.