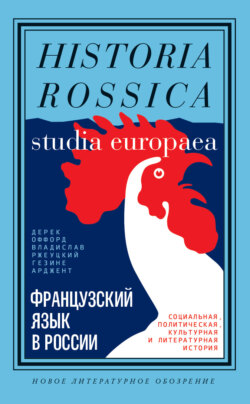Читать книгу Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история - Владислав Ржеуцкий - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 1. Исторический контекст русской франкофонии
Литературное сообщество и интеллигенция в николаевскую эпоху
ОглавлениеПотрясенный декабрьским восстанием 1825 года, Николай I немедленно предпринял шаги, чтобы в дальнейшем не допустить появления политического инакомыслия, подобного тому, которое развилось в годы, последовавшие за Наполеоновскими войнами. Его вера в легитимность самодержавия была неколебимой, и он тут же принял меры, направленные на ограничение свободы слова и на выявление любых намеков на оппозицию. В 1826 году он ужесточил цензуру, и к 1848 году было создано более десятка комитетов, которые должны были следить за исполнением устава о цензуре. В том же году он учредил новый орган полиции, Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом[294]. Эта канцелярия, в работе которой, кроме жандармов, было задействовано множество осведомителей, занималась надзором за неблагонадежными (или потенциально неблагонадежными) лицами, в круг которых, кроме политических противников режима, входили также члены религиозных сект и иностранные граждане. В конце николаевского правления – в так называемое «мрачное семилетие», длившееся с 1848 по 1855 год, – правительственные меры стали особенно жесткими, так как Николай I не желал допустить, чтобы восстания, подобные тем, которые имели место в 1848 году во Франции, разных частях Австрийской империи, Германии и Италии, вспыхнули в России. Многие члены петербургского кружка Буташевича-Петрашевского, где в конце 1840-х годов обсуждались идеи социалистов-утопистов, – так называемого кружка петрашевцев, в который входил молодой Ф. М. Достоевский, – были сурово наказаны. В 1849 году Николай I направил русские войска в Венгрию с целью подавления восстания против Габсбургов.
Однако, несмотря на все усилия, Николаю I не удалось предотвратить формирование независимого общественного мнения, которое в конечном итоге помогло расшатать как старые устои дворянской жизни, так и саму империю. Культурный подъем, начавшийся в этот момент, нашел выражение в создании оригинальной литературной традиции. Не стоит забывать о том, что именно в николаевскую эпоху А. С. Пушкин написал бо́льшую часть своих произведений, и что именно на этот период пришлось творчество М. Ю. Лермонтова, а также Н. В. Гоголя. И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой начали свою литературную карьеру в конце 1840-х или начале 1850-х годов. Эти авторы не только заложили основы русского литературного канона, их считают создателями современного русского языка, а их произведения стали источником стандартного словоупотребления, что подтверждается большим количеством цитат, помещенных в Словарь современного русского литературного языка, составленный Академией наук[295].
Классическая литературная традиция развивалась параллельно с не менее мощной традицией размышлений об эстетических, нравственных, социальных, теологических и в конечном счете политических вопросов. Произведения, принадлежащие к обоим типам словесности – поэзия и проза, с одной стороны, и беллетристика и политическая журналистика, с другой, – публиковались бок о бок в «толстых» журналах, которые возникли в николаевскую эпоху и приобрели особую популярность, когда условия стали более свободными, – в первый период гласности, последовавший за смертью Николая I в 1855 году и поражением России в Крымской войне (1853–1856). Группа, сформировавшая традицию социополитической литературы, впоследствии стала называться интеллигенцией[296]. Ее нельзя полностью отождествить с литературным сообществом, особенно когда речь идет о николаевской эпохе: было бы неверно, скажем, приписывать А. С. Пушкину или М. Ю. Лермонтову интерес к тем нравственным проблемам, которые волновали представителей интеллигенции[297]. Однако зачастую один и тот же человек (например, А. И. Герцен, Ф. М. Достоевский или Л. Н. Толстой) выступал, с одной стороны, как писатель, а с другой – как автор полемических текстов, публицист и памфлетист. Более того, как литераторы, так и интеллигенты обычно испытывали чувство гражданского долга, имели высокие нравственные цели и в одинаковой мере вызывали неодобрение властей или несли наказание за выражение взглядов, неприемлемых для правительства. Как правило, и те и другие были бесконечно далеки от государственной власти (хотя, конечно, не без исключений). И действительно, они считали, как отмечал советский диссидент Андрей Донатович Синявский, что «не должны становиться частью власти, [они] должны наблюдать за ней со стороны»[298]. Вместе с тем они приобрели большой культурный и моральный авторитет, став своего рода выразителями совести нации, и преследования со стороны власти лишь усиливали этот авторитет.
Появление литературного и интеллектуального сообщества в годы правления Николая I является свидетельством того, что в среде культурной элиты произошел еще один раскол. Рядом с теми дворянами, которые оставались в большей или меньшей степени лояльны по отношению к самодержавию, формировалось сообщество эрудированных, свободомыслящих авторов, которые далеко не всегда принадлежали к дворянскому сословию. Многие члены литературного сообщества и интеллигенции (например, ведущий критик В. Г. Белинский, одаренный дилетант Василий Петрович Боткин, историк Михаил Петрович Погодин, историограф и критик Николай Алексеевич Полевой) были детьми людей разных профессий, купцов или даже крестьян[299]. Самые выдающиеся литераторы и публицисты николаевской эпохи (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Гончаров, Тургенев, молодые Достоевский и Толстой, а также Тимофей Николаевич Грановский, Герцен и многие другие) были дворянами, пусть и разными по своему социальному положению. Однако даже дворяне, ощутив себя частью литературного и интеллектуального сообщества, могли отказаться от дворянских идеалов или, по крайней мере, перестать всецело разделять их. Дворяне продолжали испытывать чувство долга перед империей, бывшей их отечеством, первыми сынами которого, метафорически выражаясь, они были. В противовес этому представители новой литературной и интеллектуальной элиты считали скорее, что они служат нации, идею которой они почерпнули в философии и литературе европейского контрпросвещения и романтизма. Более всего они стремились выявить исключительность России, ее «самобытность», и разрешить загадку ее судьбы. Их великая миссия состояла в том чтобы пояснить важность роли России в некой универсальной системе, похожей на ту, которую описал Георг Вильгельм Фридрих Гегель в своей философии истории. Уверенные в том, что, благодаря своим знаниям они куда лучше дворян и корыстолюбивых государственных деятелей смогут описать сущность России и понять ее нужды, они считали себя той социальной группой, которая достойна говорить от лица нации[300]. И хотя это может показаться парадоксальным, многие писатели и философы, принадлежащие к противоборствующим лагерям западников и славянофилов, придерживались схожих взглядов, в основе которых лежал культурный национализм. Как заметил А. И. Герцен в мемуарном произведении «Былое и думы», западники и славянофилы, «как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»[301].
Раскол в среде образованной элиты выражался в разнице ценностей. Можно сказать, что формы культурного капитала, которые были важны для литературного и интеллектуального сообщества, отличались от тех, которые ценило дворянство, несмотря даже на то, что многие члены этого сообщества имели благородное происхождение и отголоски дворянских ценностей находили отражение в речи и поведении таких людей, как Пушкин, Герцен и Толстой. Если дворяне стремились заслужить благосклонность монарха и одобрение высшего света как на родине, так и за границей, для писателей и мыслителей было важнее заслужить уважение других писателей, критиков, журналистов, читателей и европейских литераторов и интеллектуалов. Многие из них демонстративно выказывали неприязнь к светскому обществу, в котором вращались дворяне, считая его притворным, манерным и лицемерным, и предпочитали более простой и, на их взгляд, более естественный образ жизни[302]. Они презирали материализм (понимаемый как любовь к земным благам), порицая как расточительность высшего дворянства, так и скупость, приписываемую западной буржуазии. Вместо этого они культивировали нестяжательство[303]. Общественное сознание и альтруизм занимали более высокое место в их системе ценностей, чем личная честь. Взяв на вооружение ценности, противоположные ценностям политически лояльного дворянина, они, как заметила И. Клиспис, говоря о Герцене, могли даже воспринимать наказание, полученное от власти, как «явный и особо ценный знак царской немилости»[304].
Для нашего исследования важно, что языком, имевшим большое значение для литературного сообщества и интеллигенции, был не французский, а русский. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, у многих представителей культурного и интеллектуального сообщества середины XIX века не было того высокого уровня устного владения иностранными языками, в особенности французским, которое могли продемонстрировать дворяне. Так, можно вспомнить о В. Г. Белинском, который в значительной степени повлиял на развитие русской литературы 1830–1840-х годов и который считается ярким примером первого поколения интеллигенции, активно интересовавшейся нравственными и общественными проблемами. Белинский был сыном бедного военного врача и информацию о философии и литературе Франции и Германии, повлиявшую на его осмысление русской литературы, получал во многом от владевших иностранными языками дворян: Павла Васильевича Анненкова, Михаила Александровича Бакунина, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского и И. С. Тургенева. Это вовсе не значит, что знание иностранных языков было бесполезно для интеллигенции, ведь с их помощью можно было напрямую познакомиться с новой европейской литературой и европейскими идеями. Белинский и сам пытался лучше изучить французский язык в 1840-е годы, чтобы иметь возможность читать в оригинале Жорж Санд, Пьера Леру и других авторов[305]. Однако это не могло стать ключевым элементом коллективной идентичности или личного статуса в группе, основанной на меритократическом принципе, чьи члены в силу своего социального происхождения не имели возможности овладеть иностранными языками в раннем детстве.
Во-вторых, представители формирующегося литературного сообщества, происходившие не из дворян, не стремились сравняться по социальному статусу с элитой, для которой владение французским – равно как и хорошие манеры, титулы и гербы – имело знаковый характер. Напротив, они демонстрировали безразличие к высокому социальному положению. Некоторые представители литературного сообщества из числа дворян высказывались о своем происхождении в виноватом тоне[306] или даже пытались опроститься, нося народные костюмы и перенимая крестьянские привычки[307]. Чувство отмежевания, отчуждения от привилегированного социального класса естественным образом влекло за собой и неприятие его языковых практик. Поскольку представители новой социальной группы желали говорить от лица всей нации, литераторы и интеллигенты, как мы увидим в дальнейшем, постоянно критиковали языковые привычки дворянства[308]. Не случайно эта критика достигла своего апогея во второй половине XIX столетия, когда дворяне ощутили, что их главенство в среде образованной элиты находится в как никогда уязвимом положении, и когда они потеряли свое исключительное право владеть землей, на которой трудились крепостные.
В-третьих, как мы отметили, в XIX веке нации начали ассоциироваться с конкретными «народами»[309], и язык того народа, который составлял ядро нации, начал восприниматься в качестве фундаментального элемента национальной идентичности. По этой причине члены литературного сообщества и интеллигенция, которые были главными представителями национальной культуры, отвечали за сохранение и развитие ее языковых традиций, а также воплощали в себе социальное и политическое самосознание нации. Для того чтобы играть эту роль, им необходимо было создать корпус текстов на русском языке, и то значение, которое их тексты имели для формирования чувства национального единства в России этой эпохи, едва ли можно переоценить[310]. В противоположность этому, дворяне, в эпоху национализма, переживавшего подъем в середине XIX века, говорившие по-французски в свете и дома, не обладали теми качествами, которые позволили бы им стать голосом русской нации, а не Российской империи.
И наконец, следует отметить, что сущность нации, по представлению многих писателей и мыслителей середины XIX века, в чистом виде находила воплощение в народе, то есть в крестьянах, чья жизнь была свободна от великосветских привычек высших слоев общества. Эту мысль разделяли многие писатели и мыслители, независимо от их политических взглядов, включая А. И. Герцена, М. А. Бакунина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и славянофилов. Народные массы вызывали живой интерес литераторов и интеллигенции. Смещение фокуса с петербургских салонов на крестьянскую избу, являвшую собой противоположность дворянскому миру, нашло отражение в многочисленных публикациях периода, последовавшего за николаевской эпохой, некоторые из этих публикаций представляли собой результаты работы, начало которой было положено много лет назад. Среди них были рассказы о крестьянской жизни, исследования, посвященные истории крепостного права, крестьянской общины и крестьянских восстаний, а также сборники народных песен, сказок, преданий, мифов и устного эпоса[311]. Большое внимание уделялось и народной речи: в 1862 году лексикограф Владимир Иванович Даль выпустил сборник, включавший в себя более 30 000 пословиц и поговорок, который можно считать своего рода хранилищем самобытности и мудрости русского народа[312].
Безусловно, не стоит забывать о том, что не весь народ в Российской империи говорил по-русски: этнические меньшинства, проживавшие в разных регионах (например, эстонцы, грузины, евреи, калмыки, марийцы, а также не русскоязычные славяне, такие как украинцы), могли вообще не знать русского языка, знать его довольно плохо или быть в той или иной степени двуязычными. Тем не менее в основной своей массе крестьяне в Центральной России – и та их часть, которая в первую очередь интересовала литературное сообщество и интеллигенцию, – были русскими и говорили только на одном языке, что также объясняет, почему во второй половине XIX века франко-русский билингвизм начал терять свою ценность в глазах русских писателей и мыслителей.
* * *
Речевое поведение, которое мы будем описывать, и отношение к языку, формирование которого мы проследим на страницах этой книги, должны рассматриваться в контексте социальных и культурных процессов, происходивших в России в XVIII–XIX веках. По этой причине мы кратко охарактеризовали европеизацию российского дворянства, которая началась еще в XVII веке и резко интенсифицировалась в XVIII, особенно во время царствования Петра Великого, будучи частью его программы создания империи, и сопровождалась масштабной модернизацией государства. Мы указали на неоднородность дворянства и подчеркнули, что владение французским языком было распространено преимущественно в высших слоях этого сословия, причем выучить этот язык было невозможно, не обладая определенными материальными ресурсами, поэтому умение говорить по-французски считалось признаком принадлежности к элите. Мы затронули вопрос о том, в какой степени (по-нашему мнению, в незначительной) действия царской власти обусловили формирование многоязычного и космополитичного типа высшего дворянства в России XVIII века. На протяжении долгого периода, который находится в центре нашего внимания в данной книге, дворянство постепенно утрачивало позиции главного сословия империи, тогда как литературное сообщество и интеллигенция, напротив, становились важнейшими культурными и нравственными представителями нации. Эти процессы сопровождались различиями в речевом поведении и отношении к языку, и обсуждение этих различий является частью большого нарратива о судьбе нации, наложившего значительный отпечаток на быстро развивавшиеся литературу и публицистику дореволюционной России.
294
О языке Третьего отделения см. предпоследний раздел главы 5.
295
См.: Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / Под ред. В. И. Чернышева. М., 1950–1965.
296
В этой книге мы пользуемся термином «интеллигенция» для обозначения группы людей, которая является в одно и то же время интеллектуально независимой и социально и политически активной. Однако следует отметить, что дать определение этому понятию достаточно сложно. В английском языке это слово имеет пренебрежительный оттенок, что находит подтверждение в романе Герберта Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», герой которого, мистер Бритлинг, называет интеллигенцию «безответственным средним классом с идеями» (этот пример дает Oxford English Dictionary, 2-е изд. Vol. 7. P. 1070). Однако в русском интеллектуальном сообществе этот термин имеет скорее положительную окраску, как и в работах Исайи Берлина, восхищавшегося представителями интеллигенции середины XIX века, о которых он написал эссе, собранные в книге «Русские мыслители» (2008). Г. Хэмбург в одной из своих статей делает попытку переосмыслить это понятие и решить проблемы, связанные с его употреблением, говоря о том, что существуют разные типы интеллигенции (2010). Еще одну проблему представляет ретроспективное применение этого термина: судя по всему, он не был широко распространен вплоть до 1860-х годов (Петр Дмитриевич Боборыкин, писатель второго ряда, заявлял, что именно он ввел это слово в массовое употребление), но таких мыслителей, как В. Г. Белинский, деятельность которого пришлась на гораздо более ранний период, 1830–1840-е годы, теперь обычно причисляют к интеллигенции. Кроме уже упомянутых работ И. Берлина и Г. Хэмбурга, существует большое количество литературы, посвященной этому вопросу. Многие из работ, написанные достаточно давно, в 1960–1970-х годах, когда интерес западных ученых к этой теме был весьма велик, по сей день не утратили своей ценности: см., напр., упомянутые в библиографии Billington (1960), Malia (1961), Nahirny (1962), Pollard (1964), Raeff (1966), Confino (1972), а также более свежие работы Sdvižkov (2006) и Сдвижков (2021).
297
При этом, однако, мы не станем противопоставлять таких «великих писателей», как Достоевский, Толстой и Чехов, радикальной интеллигенции, как это делает Гэри Сол Морсон, см.: Morson G. S. Tradition and Counter-Tradition: the Radical Intelligentsia and Classical Russian Literature // Leatherbarrow W., Offord D. (Eds). A History of Russian Thought. Cambridge, 2010. P. 141–168, особенно p. 141–148.
298
Sinyavsky A. The Russian Intelligentsia / Transl. by Lynn Visson. New York, 1997. P. 2. В отличие от нас, А. Д. Синявский не проводит различия между интеллигенцией и литературным сообществом.
299
В конце 1850-х и в 1860-х годах, после смерти Николая I (1855) и поражения России в Крымской войне, в рядах интеллигенции значительно возросло число разночинцев, многие из которых были детьми священнослужителей. Самыми яркими примерами являются Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов.
300
Frede V. Doubt, Atheism, and the Nineteenth-Century Russian Intelligentsia. Madison, 2011. P. 137.
301
Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 9. С. 170.
302
Такое поведение в XIX веке не было новостью; уже в русской литературе XVIII века оно было общим местом.
303
См.: Offord D. Worshipping the Golden Calf: The Intelligentsia’s Conception of the Bourgeois World in the Age of Nicholas // Andrew J., Offord D., Reid R. (Eds). Turgenev and Russian Culture: Essays to Honour Richard Peace. Amsterdam; N. Y., 2008. P. 237–257.
304
Kleespies. A Nation Astray. P. 160.
305
Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 242, 243.
306
Например, можно обратить внимание на то, в каком негативном тоне И. И. Панаев в литературных воспоминаниях говорит о своей дворянской юности и о кругах, в которых он вращался в то время. Панаев. Литературные воспоминания. С. 145.
307
Л. Н. Толстой в конце жизни стремился к такому опрощению.
308
См. особенно главы 8 и 9.
309
В данном случае под «народом» понимается группа людей, представляющая собой определенную этническую группу и культурное сообщество, а не подданные конкретного царя или другого правителя и не граждане конкретного государства.
310
Это подчеркивает в своей книге Дж. Хоскинг, см.: Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск, 2001. С. 298–325.
311
Примеры художественной литературы о крестьянах можно найти в: Wortman (1967), Glickman (1973), Offord (1990). Примеры других упомянутых здесь публикаций можно найти в: Offord D. The People // Leatherbarrow, Offord (Eds). A History of Russian Thought. P. 241–262, здесь p. 252, 261 (n. 44–49).
312
Даль. Пословицы русского народа.