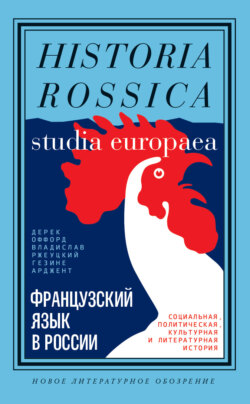Читать книгу Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история - Владислав Ржеуцкий - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Преподавание и изучение французского языка
Французский (и английский)/русский
ОглавлениеДолгое время русский язык не был самостоятельной дисциплиной в дворянском образовании. Часть дворянских детей, поступавших в Кадетский корпус в 1730–1740-х годах, не умела ни читать, ни писать по-русски, хотя по-французски или по-немецки некоторые дети умели читать, а иногда и писать, что говорит нам о приоритетах дворянского образования в России до эпохи Екатерины II[409]. Однако еще в середине XVIII века начало формироваться представление о русском как о европейском языке, наделенном многими качествами, включая те, которые традиционно приписывались французскому. Прекрасным тому примером является речь о французском языке, произнесенная в 1757 году малоизвестным преподавателем этого языка в Московском университете, французом Гийомом Раулем (Guillaume Raoult), на торжественном собрании университета в присутствии многих представителей московского дворянства[410]. Рауль освещал свою тему с позиций французской – точнее, европейской – традиции, в которой было принято говорить о «гении» французского языка и которая нашла яркое выражение в сочинении, представленном Риваролем на конкурс Берлинской академии в 1783 году. Однако Рауль лестно отзывался и о русском языке, совсем не в тех терминах, в которых король Пруссии Фридрих II говорил о немецком, на котором пристало разве что говорить с лошадьми. Таким образом, в России русский начали воспринимать не только как официальный язык империи, но и как один из главных языков Европы. Речи в университете стали произносить на трех живых языках: русском, французском и немецком, а также на латыни[411].
Повышение статуса русского языка отразилось и в Уставе Кадетского корпуса, принадлежащем перу И. И. Бецкого, который в 1760-е годы предложил вести все занятия в Кадетском корпусе, кроме языковых уроков, только на русском языке, тогда как прежде их часто вели на немецком. Стремясь обосновать эти меры, Бецкой апеллировал к идеям того времени о процессе усвоения знаний. Он утверждал, что обучение может проходить успешно только на родном языке. Более того, Бецкой выступал за изучение церковнославянского, чтобы ученики могли «российским писать правильно и красноречиво и тем удобнее разуметь церковныя наши книги»[412]. Мы видим здесь, очевидно, влияние религии и национального самосознания, которые в России были традиционно тесно связаны. Вместе с тем Бецкой переносил на русскую почву дискуссию, развернувшуюся во Франции, где французский и латинский были соперниками и латинский все больше уступал французскому место языка преподавания в учебных заведениях для дворян. Сторонники преподавания на родном языке стремились к тому, чтобы обучение шло быстрее и давало практические результаты. Если римскую литературу и историю и признавали необходимыми предметами, то изучать их нужно было на родном языке, в данном случае на французском, тем более что основные греческие и римские авторы были переведены. Родной язык облегчал дворянству доступ к «наукам» (то есть к знаниям вообще), тогда как латынь требовала больших усилий и внушала молодым дворянам «отвращение» к учебе[413]. Бецкой строил на русской почве ту же оппозицию, однако, так как латынь играла незначительную роль в образовании российского дворянства в екатерининскую эпоху, ее место заняли живые иностранные языки, на которых науки преподавались дворянству.
Несколько реформ вывели русский язык на первый план. В 1780-х годах была основана Российская академия, в которой под руководством княгини Е. Р. Дашковой началось составление словаря русского языка[414]. Новая реформа государственных учебных заведений представляла собой попытку завершить начатое Бецким и обеспечить преподавание всех предметов, кроме иностранных языков, на русском. Неясно, насколько быстро эта инициатива увенчалась успехом. Сам Бецкой признавал, что было невозможно найти русскоговорящих преподавателей по всем дисциплинам, и для воплощения его проекта нужно было много времени. Поэтому нам, вероятно, стоит с осторожностью оценивать влияние подобных инициатив властей на место русского языка в государственном дворянском образовании. Недовольство, которое в 1773 году сенаторы проявляли по поводу постепенного отказа от немецкого языка в государственных учебных заведениях, также показывает, видимо, что желания властей порой не давали ощутимых результатов. Однако к концу царствования Екатерины русский язык в Кадетском корпусе не уступал в правах двум другим основным языкам, французскому и немецкому. Кадеты прекрасно владели им, о чем свидетельствуют сборники рукописных поздравлений кадет директору на русском языке. Расхожее мнение о том, что дворяне в это время были настолько подвержены французскому влиянию, что не знали родного языка, безусловно, не имеет оснований, по крайней мере если судить по успехам учеников Кадетского корпуса.
Подчеркнув, что знание русского языка было широко распространено среди дворян, мы должны также учесть, что, возможно, он в целом занимал более важное место в государственном образовании, чем в домашнем (которое оставалось важнейшей формой образования в XVIII – начале XIX века, особенно среди высшего дворянства). Существует несколько примеров почти исключительного предпочтения французского в российских аристократических семьях екатерининского времени. Так, в семье княгини Н. П. Голицыной обучение детей и общение между родителями и детьми, между семьей и близким кругом друзей того же социального положения почти всегда происходили на французском языке. В доме князей Барятинских даже российскую историю – которая в 1770-х годах, несомненно, воспринималась как средство укрепления чувства национальной принадлежности у детей – преподавали не по-русски, а по-французски[415]. Все предметы, которые в то время в семье Барятинских изучали девочки (историю, мифологию, географию, литературу, математику), им преподавали на французском, кроме языков, среди которых появляется и русский, наряду с французским, немецким и даже итальянским[416].
Наоборот, в пушкинском поколении, которое воспитывалось в александровскую эпоху и во время Наполеоновских войн, привязанность к русскому языку становится распространенным явлением. Александр Строганов, сын Павла Строганова и внук Александра Сергеевича Строганова, обучался русскому языку и литературе и читал русские сочинения, которые должны были внушить ему патриотические чувства, например пьесу Матвея Васильевича Крюковского «Пожарский» (1807), эпическую поэму М. М. Хераскова «Россиада» и речь, которую, как считается, Петр Великий произнес перед Полтавской битвой (1709). Несколько русскоязычных учителей преподавали ему неязыковые предметы на русском языке, что было трудно представить в период, когда получал воспитание его дед, в середине XVIII века[417]. Русский язык стал теперь самостоятельным предметом, который учили через письмо и чтение, в основном литературных текстов.
Более того, некоторые русские дворяне, предпочитая вести переписку на французском, во взрослом возрасте старались совершенствовать свое знание русского языка. Примером может послужить князь Борис Владимирович Голицын, один из так называемых «франко-русских писателей». Елизавета Александровна Муханова, впоследствии вышедшая замуж за князя Валентина Михайловича Шаховского, вела по-русски дневник, хотя писать на этом языке ей было сложнее, чем на французском. Ей хотелось лучше освоить русский язык: «<…> я непременно хочу прочесть весь новый Завет один раз по русски, а другой по славянски; я люблю свой отечественый язык и желаю утвердиться в нем», – писала она[418]. Сестра Бориса Голицына Софья, вышедшая замуж за графа П. А. Строганова, тоже рекомендовала изучение церковнославянского языка наряду с русским. В 1819 году она писала дочери (хоть и по-французски!): «Je suis enchantée que tu t’applique à la langue sclavone, c’est la clef du russe, et puis elle est si belle que cette raison seule devrait suffire pour l’ etudier» («Я рада, что ты занимаешься славянским, это ключ к русскому, к тому же он так красив, что одной этой причины довольно, чтобы [захотеть] учить его»)[419].
Как ни парадоксально, во многих семьях это новое стремление учить национальный язык и читать русскую литературу почти никак не повлияло на личное общение, которое, как и раньше, происходило по-французски, и французский продолжал оставаться основой дворянского воспитания. Так было, например, в семье Строгановых в первой половине XIX века. Наталья Валентиновна Шаховская (дочь упомянутой выше Е. А. Шаховской, урожденной Мухановой) и ее кузины София Александровна Муравьева, Прасковья Михайловна Голынская и Матильда Михайловна Голынская в личном общении редко обращались к русскому языку, используя французский и иногда другие языки: английский, немецкий и итальянский. Это отражало особенности их учебной программы, предполагавшей изучение разных языков, но, казалось бы, странным образом обращавшей мало внимания на родной язык[420]. Можно предположить, что патриотические чувства могли сочетаться у русских аристократов с предпочтением французского языка в бытовом общении.
В первой половине XIX века бо́льшая часть предметов во многих дворянских семьях продолжала изучаться по-французски, как нам известно по документам о Голицыных, Кернах, Соллогубах, Строгановых и других семьях. Французский аббат Фроман (Froment) преподавал на этом языке историю, географию и ботанику в домах Гурьевых, Давыдовых и Кочубеев. В семье Александра Ивановича Дмитриева, брата известного поэта и государственного деятеля И. И. Дмитриева, русский язык преподавали по субботам, а основное время было посвящено изучению французского, немецкого и других предметов: географии, древней истории и мифологии, которым обучали по-французски. Федор Васильевич Самарин, чье детство пришлось на конец XVIII века, изучал российскую историю на французском языке и во взрослом возрасте продолжал активно пользоваться французским и писал путевые заметки, исторические и религиозные сочинения на этом языке. Его сын Юрий в первые годы обучения (1820-е) не учил русский язык, о чем свидетельствует дневник занятий, принадлежащий его гувернеру – французу Пако. «Хотя он [живет] в России, он очень мало учит родной язык, – писал Пако, сокрушаясь о том, что в этой семье, по его мнению, слишком много говорят по-французски. – Без сомнения, первая причина тому – мое постоянное присутствие рядом с ним. Но если бы только я один говорил с ним по-французски, возможно, он сделал бы некоторые успехи в русском языке»[421]. Может показаться иронией судьбы, что отчасти именно по инициативе французского гувернера юному Юрию наняли учителя русского языка, благодаря чему будущий славянофил смог хорошо овладеть своим родным языком. Французский главенствовал и в семье прибалтийских дворян баронов фон Мейендорфов. В начале XIX века они еще плохо говорили по-русски, и прекрасное владение французским позволило Мейендорфам быстро войти в российское высшее общество. В александровскую эпоху дети из этой семьи переписывались с матерью по-французски и в целом пользовались этим языком в частной жизни, таким образом отодвигая родной немецкий на задний план[422]. В некоторых дворянских семьях русским языком пренебрегали даже в царствование Николая I. Так, домашним языком в семье Бахметевых, откуда происходила мать мемуаристки Е. Ю. Хвощинской, был французский, а все учителя были иностранцами. Если дети говорили по-русски, их наказывали (привязывали на грудь «языки» из красной ткани), а уроки русского были «в полном забвении»[423]. Даже детей Л. Н. Толстого в 1870-е годы обучала армия иностранных учителей (из Англии, Франции, Германии и Швейцарии), и, хотя они учили русский, французский оставался основой их образования[424].
В другой семье высокопоставленных дворян, князей Куракиных, в образовании детей русскому языку уделялось достаточное внимание, хотя французский оставался основным языком в доме. Несмотря на то что их раннее детство прошло во Франции в 1840-е годы, Елизавета Алексеевна Куракина и ее брат Борис, дети дипломата А. Б. Куракина, учили большинство предметов (русский язык, географию, древнюю историю, историю России, математику, естественную историю, физику и ботанику) на русском языке с русским учителем. По воспоминаниям самой Елизаветы, она совершенствовала познания в родном языке, переводя «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» с французского на русский[425]. Важно отметить, что одной из причин возвращения семьи в Россию было стремление дать «русское образование» брату Елизаветы Борису[426]. Однако домашним языком семьи в то время оставался французский, о чем свидетельствуют воспоминания Елизаветы, так как, цитируя речь кого-то из членов семьи, она обычно делает это по-французски, хотя воспоминания написаны по-русски. Нельзя не отметить, что ее французский, который она выучила в пансионе во время пребывания во Франции, был не хуже, чем у ее товарищей-французов, если верить ей: «И после этого пусть попробуют нам сказать, что русские – это казаки!» – восхищенно восклицал ее учитель[427].
Однако в среде российской аристократии языком частной жизни не обязательно был французский. Например, князь М. М. Щербатов, живший во второй половине XVIII века, редко переписывался на французском с членами своей семьи и другими русскими. Те немногочисленные письма на французском, которые он посылал сыну Дмитрию, носили педагогический характер. В одном из них Щербатов поднимает вопрос о выборе языка общения и о том, почему следует учить тот или иной язык. Французский кажется ему необходимым, потому что он
a present si repandue en Europe et par consequent necessaire tant pour la conversation, que pour l’ instruction a cause du grand nombre de bons auteurs qui ont écrit en cette langue <…>.
(в настоящее время так распространен в Европе, а следовательно, необходим как для общения, так и для образования, так как большое число хороших авторов писали на этом языке. <…>)[428].
«C’est pour cella, – пишет Щербатов, – que je vous conseille en ami et en père de vous appliquer a lire les bons auteurs français, et a tacher de former votre stile sur ces bons auteurs» («Именно поэтому я советую вам как друг и как отец заняться чтением хороших французских авторов и постараться сформировать свой собственный стиль следуя этим образцам»)[429]. Таким образом, причины, по которым Щербатов считает важным изучение французского, связаны с его функцией lingua franca, литературными достоинствами французских авторов и требованиями стиля[430]. Щербатов не склонен видеть во французском язык, который может служить средством общения в любой ситуации в России и заменить русский. Вполне вероятно, что эта позиция была связана с его критикой практик и форм общения, введенных в России в результате вестернизации, хотя его пессимистическое сочинение «О повреждении нравов в России», кажется, не содержит прямых замечаний о чрезмерном использовании французского языка в России. В любом случае отказ Щербатова от использования французского в переписке не был исключением, поскольку даже в царствование Екатерины II мы находим много писем представителей элиты, полностью написанных на русском языке.
Вероятно, чаще всего речь шла не об исключительном предпочтении того или иного языка, французского или русского, а о некой форме двуязычия, при которой разные языки выполняли разные функции. Например, дворянин мог говорить по-французски с другим дворянином, но по-русски – со священником или купцом. Или же мужчины-дворяне могли общаться по-русски между собой, но переходить на французский в беседах с женщиной. В других обстоятельствах функции языков могли сближаться или даже совпадать. Так, в повседневном общении дворяне могли переходить с французского на русский, даже не чувствуя, что функции этих языков различаются[431]. Сложность причин выбора того или иного языка усугублялась тем, что уровень владения французским языком не был одинаковым у разных поколений российской аристократии. Об этом свидетельствуют примеры Голицыных и Строгановых. Наталья Петровна Голицына писала по-французски вполне свободно, однако нередко использовала «фонетическую» орфографию (несколько примеров см. в следующем разделе). Это говорит об образовании, которое получали женщины поколения Голицыной в царствование Елизаветы Петровны и в начале царствования Екатерины II: они уже были хорошо знакомы с французским, но их едва ли учили писать на этом языке. При этом детей Голицыной, как мальчиков, так и девочек, в 1770–1780-х годах гораздо лучше обучали французскому. Вероятнее всего, они были билингвами, хотя это трудно доказать в силу того, что мы не находим текстов, написанных ими по-русски, по крайней мере в период, когда они получали образование. Отец Александра Сергеевича Строганова, барон Сергей Григорьевич Строганов, в 1750-е годы вел переписку с сыном на русском языке, так как мог читать, но не умел писать по-французски. Сам А. С. Строганов тоже часто переписывался с сыном Павлом по-русски, но по другой причине: Павел родился и воспитывался во Франции и гораздо лучше владел французским, чем русским, по крайней мере в письменной речи, поэтому его отцу приходилось принимать меры для исправления этой языковой асимметрии. Целью гран-тура по России, в который А. С. Строганов отправил сына, было не только познакомить Павла с его страной, но и улучшить знание родного языка. Это было нечто новое в российском дворянском образовании. Сын Павла, которого тоже звали Александр, одинаково хорошо владел обоими языками и мог изящно выражаться как по-французски, так и по-русски, несмотря на то что редко писал по-русски вне уроков[432].
Наконец, следует отметить, что, хотя французский в начале XIX века сохранял свое главенствующее положение и многие по-прежнему продолжали изучать немецкий (хотя в меньшей степени, чем раньше, и обычно после французского), все больше и больше семей стали нанимать английских или шотландских учителей. Уже в царствование Екатерины английский учили в семьях Голицыных[433] и Строгановых[434]. Однако даже когда в александровскую эпоху среди российского дворянства распространилась англомания, увлечение английской культурой далеко не всегда подразумевало знание английского языка[435], хотя интерес к нему возрос[436]. Еще одним признаком того, что в это время некоторые русские могли читать по-английски, было основание в 1822 году шотландцем Джеймсом Бакстером, гувернером в семье Киреевских, журнала The English Literary Journal of Moscow, просуществовавшего, правда, недолгое время. Издатель журнала объяснял, что его цель заключалась в том, чтобы помочь тем, кто говорит на английском языке и изучает его, но не успевает следить за новыми публикациями английской литературы. По его замечанию, в это время во всей Европе и особенно в России наблюдалось «явное внимание к английскому языку»[437]. При этом для удобства русских читателей, недостаточно знавших английский, публикуемые тексты сопровождались французскими переводами, что говорит о сохранявшейся функции французского как языка-посредника[438].
Таким образом, в конце царствования Екатерины II языковые различия наблюдались не только между дворянством, духовенством и разночинцами, но и в среде самого дворянства. Желание знать французский мы видим в разных слоях дворянства. При этом, судя по всему, в аристократическом образовании меньше внимания уделялось изучению русского языка и общению на нем (хотя образ российского дворянина, не умеющего сказать ни слова по-русски, – это не более чем карикатура). Также аристократы стали изучать английский язык. Однако в государственных учебных заведениях (в которых по большей части и получали образование представители среднего и мелкого дворянства) начиная с екатерининской эпохи преподавание русского языка было поставлено хорошо. Изучение английского в таких учебных заведениях было редкостью, и еще долгое время его не было в главных дворянских образовательных учреждениях, таких как Сухопутный кадетский корпус и Царскосельский лицей[439].
409
Мы благодарны И. И. Федюкину за эти сведения.
410
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 805. Л. 1–2 об. Мы благодарны Д. Н. Костышину за то, что он обратил наше внимание на этот документ.
411
О топосе гордости за русский язык см. во втором разделе главы 8.
412
[Бецкой]. Устав императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса. Вторая пагинация. С. 50. (Курсив в оригинале.)
413
См.: Le Gras N. «L’ Académie Royale de Richelieu, a son Eminence (1642)». BNF. Arsenal 4–H–8289. Fol. 23–30. Мы благодарны А. Бруски за то, что он обратил наше внимание на этот источник.
414
См. второй раздел главы 8.
415
НИОР РГБ. Ф. 19. Оп. 284. Д. 5.
416
Там же. Д. 2–8.
417
О том, как в этой семье обучали языкам, см.: Rjéoutski, Somov. Language Use among the Russian Aristocracy.
418
Письмо от 25 сентября 1823 года. Цит. по: Гречаная Е. П. Когда Россия говорила по-французски: русская литература на французском языке (XVIII – первая половина XIX века). М., 2010. С. 184.
419
ОР РНБ. Ф. 669. № 54. Л. 4.
420
Гречаная. Когда Россия говорила по-французски. С. 190.
421
Самарин Юрий Федорович // Русский биографический словарь. Т. 18. С. 134. Мы благодарны О. Ю. Солодянкиной за то, что она обратила наше внимание на эту информацию.
422
Offord D., Rjéoutski V. Family Correspondence in the Russian Nobility: a Letter of 1847 from Valerii Levashov to his Cousin, Ivan D. Iakushkin. URL: https://data.bris.ac.uk/datasets/3nmuogz0xzmpx21l2u1m5f3bjp/Levashov%20introduction.pdf.
423
Хвощинская Е. Ю. Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской // Русская старина. 1897. № 3. С. 518. Мать Хвощинской, родившаяся в 1822 году, говорила, что у нее было всего семь уроков русского языка, и те у малороссийского священника, который неправильно произносил слова «пять» и «пятница» (Там же).
424
Полосина А. Н. Гувернеры в жизни и произведениях Л. Н. Толстого // Французский ежегодник 2011: Франкоязычные гувернеры в Европе XVII–XIX вв. М., 2011. С. 329–347.
425
Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. Под властью трех царей / С предисл. и примеч. Е. В. Дружинина. М., 2014. С. 45–46, 53. Нарышкина – фамилия Е. А. Куракиной в замужестве.
426
Нарышкина. Мои воспоминания. Под властью трех царей. С. 67.
427
Там же. С. 57, 491.
428
РГАДА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 517. Л. 12–13, 33–34, 174–174 об. Орфография Щербатова сохранена. Письма Щербатова к сыну были опубликованы в русском переводе в: Щербатов М. М. Избранные труды / Сост., авт. вступ. статьи и коммент. С. Г. Калинина. М., 2010. С. 108–116, а также переизданы в: Он же. Переписка князя М. М. Щербатова / Введение и коммент. С. Г. Калининой. М., 2011. С. 352–354, 357–361, 366–368. Цитата на с. 357–358.
429
Щербатов. Переписка князя М. М. Щербатова. С. 357.
430
О стиле см. следующий раздел этой главы.
431
О переключении кодов см. особенно главу 6.
432
Rjéoutski, Somov. Language Use among the Russian Aristocracy.
433
Например, в семье княгини Н. П. Голицыной и князя В. Б. Голицына.
434
П. А. Строганов учил английский, как и его дети от брака с Софьей Владимировной, урожденной Голицыной.
435
Cross. English – a Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I?
436
Примерами могут послужить семьи, главами которых были Иван Петрович Вульф, губернатор Орловской губернии (семья была родом из Тверской губернии); сенатор Захар Николаевич Посников; князь Павел Алексеевич Голицын; генерал Паисий Сергеевич Кайсаров (англичанка Клер Клермонт в 1820-е годы была учительницей во всех этих семьях); сенатор Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, отец двух декабристов; Вера Ивановна Хлюстина, урожденная Толстая (семья из Калуги); княгиня Мария Федоровна Барятинская; декабрист генерал-майор Михаил Федорович Орлов; Николай Николаевич Раевский-младший (англичанин Томас Эванс, преподаватель Московского университета, учил Муравьева-Апостола, Хлюстину, Барятинскую, Орлова и Раевского). Мы благодарим О. Ю. Солодянкину за эти сведения. Об обучении английскому языку в этих семьях см.: Алексеев М. Московские дневники и письма Клер Клермонт // Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века) // Литературное наследство. 1982. № 91. С. 469–573; Clairmont C. et al. The Clairmont Correspondence: Letters of Claire Clairmont, Charles Clairmont, and Fanny Imlay Godwin / Ed. by Marion Kingston Stocking. Vol. 1 (1808–1834). Baltimore; London, 1995; Павлов Н. Ф. «Evans» // Москвитянин. 1849. № 3. Февраль. Кн. 1. Разд. 5. С. 75–76.
437
Алексеев. Московские дневники и письма Клер Клермонт. С. 527.
438
Мы так же благодарим О. Ю. Солодянкину за эти сведения. О Бакстере и его журнале см.: Алексеев. Московские дневники и письма Клер Клермонт. С. 527–528.
439
В Морском кадетском корпусе преподавание английского языка мало развивалось в царствование Екатерины II.