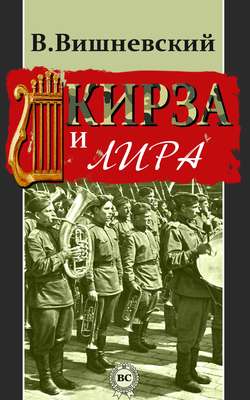Читать книгу Кирза и лира - Владислав Вишневский - Страница 3
Часть I. Кирза
1. Последний нонешний денечек…
ОглавлениеМы едем уже третьи сутки. Мы – это новобранцы, будущие защитники Родины. Нашей Родины. Лучшей в мире страны – СССР. Перед этим нас, выхваченных, выловленных безжалостной военкомовской рукой из теплой, привычной, родной школьной и семейной жизни, перед отправкой к местам будущей службы несколько суток держали на сборном пункте под замком, чтоб не разбежались. Ждали поезда. Там же, внутри, с нами постоянно находилось несколько офицеров и десятка два солдат срочной службы – младшие командиры. Держались они в сторонке, в нашу круговерть не вмешивались, в разборках не участвовали и на всякие каверзные или слишком «умные» вопросы не отвечали. Наблюдали за нами издали, но всегда снисходительно, со взрослой ехидной ухмылочкой.
А мы, пацаны, почти запуганные военкомовскими предсказаниями очень близкими в самом недалеком будущем – именно для нас, обалдуев! – дисбатами-штрафбатами, болтались без дела в быстро освоенном пространстве. Гуляли… «Последний нынешний денек».
Нас здесь собрали и приготовили к отправке – около тысячи пацанов. Распределили по каким-то командам, строго приказали далеко не расходиться – это под замком-то! – и о нас вроде забыли. Вот так, одномоментно – чик! – мы были выключены из родной гражданской жизни. Любимые девчонки, братья, братаны-пацаны; кинотеатры, школы, спортзалы, родные подвалы; бабушки, дедушки, мамы, папы – все это враз осталось там, за дверями, в прошлом. Всё, отбегался. Попался мальчик, не трепыхайся, считай, отпрыгался – ко-опец! Впереди ждет неведомая и страшная армия. И не погулять тебе теперь, мальчик, и не пожить тебе нормальной гражданской жизнью, и не… «Ма-ама, роди меня обратно!» Но это, пожалуй, уже поздно, попал.
Духовой оркестр, аплодисменты, красные транспаранты, парадные речи военкома о почетном доверии Родины, любви народа, долге – остались там, снаружи, со стороны висячего замка, за закрытыми дверями. Здесь, с нами, только наше личное пацанячье одиночество, ноющий страх и дикая тоска. От отчаянной безысходности хотелось где-нибудь спрятаться и разреветься, как в детстве. Но где тут, в таком столпотворении спрячешься! Как тут рыданешь, когда вокруг тебя бузит, горланя, орава задиристых пацанов – таких же, как ты – в пьяном кураже стоит на ушах. Все они, как и ты, свой страх и растерянность прячут за маской разудалой веселости, пьяных слез, блатных ужимок, сплошного мата. «Гул-ляй, братва-а, пьяному море по колено!..»
В разных местах огромного сводчатого зала старого, обшарпанного железнодорожного вокзала, с продымлённо-тухлым запахом, под плохо настроенные гитары, сплошь обклеенных переводными картинками полуобнаженных красавиц и целующихся парочек – с надрывом, блатными голосами со слезой, поют, копируя своих любимых певцов, пацаны-гитаристы. Вокруг них – кучками, раскачиваясь в такт музыки, стоят, лежат, сидят, курят, жуют, притоптывают, не стройно, но очень громко подпевают почитатели свободного песенного жанра и другие, те, кому просто давно делать нечего, и кто еще как-то, удивительным образом стоит на пьяных ногах и может самостоятельно туда-сюда всё же передвигаться. Они, отдохнув у одной группы, переходят к другим и сходу, бесцеремонно и невпопад, перебивая звучащую мелодию, вразрез подхватывают любые, только им известные песни.
Внеся определенный разлад в то, камерное, вокальное исполнение, с видимым удовольствием, не избегая, резко ответно ввязываются в драку: бац, бац, хлесь, хлесь!.. Тут же, на месте, в короткой рукопашной, достойно получив по физиономии, с разбитыми носами и губами уходят, громко грозя и матерясь, за своим сильным и верным подкреплением.
В одном месте поют:
На Дерибасовскай открылася пивная-а,
Там сабиралася кампания блатная-а,
Там были девочки – Тамара, Роза, Рая-а,
И гвоздь Одессы-ы Костя Шмаровоз.
В другом месте хор голосов громко и залихватски выводит:
Гоп са-смыком – это буду я-а,
Варавать – прафессия мая-а.
Я в Берлине научился и в Стамбуле надрачился,
И паеду в дальние края-а…
В следующем:
А-а-ах, зачем любила я-а, зачем стала-а цылова-ать.
Хош ешь меня-а, хош режь меня-а – уйду к нему апя-ать…
Ещё дальше:
Раскинулась море широка-а, и волны бушуют вдали
Тут практически одни слезы, поют пацаны прочувствованно, но очень громко.
Тавари-ищ, мы еде-ем далё-ёо-ока,
Падальше-е от наше-ей земли-и… Эх!
Копируя взрослых, размашисто, с надрывом, гуляют вчерашние мальчишки. Сегодня они еще новобранцы – какой спрос? – а завтра… завтра им придется… «Не каркай, падла! Дакалупался со своим – завтра, завтра… Завтра будет завтра, понял? Вал-ли отсюда, предсказатель ван-нючий, пока не схлапатал! Н-ну!..»
…К нагам привяз-за-али ему каласни-ик,
И в воду ево апусти-или…
Пацаны полупьяные и просто пьяные от выпитой сегодня и накануне всякой разной, без разбора, дешевой бормотухи, взвинченные нервотрепкой последних дней, драчливые и неуправляемые, обидчивые и голодные, перевозбуждённые всей этой непривычной сутолокой и абсолютной неразберихой, томительным, выматывающим душу ожиданием, тоской по оставленному дома, и страхом перед неизвестным будущим куражились, находясь под замком и воинской охраной.
Этакая вот «красочная» толпа новобранцев в безделье беспрерывно мотается туда-сюда по залу, громко горланит, поет, играет в карты, матерится, гогочет, не твердо стоя на ногах, пытается играть в чехарду; попутно допивает и доедает остатки продуктов, предназначенных заботливыми родителями для дальней дороги. «Йе-эх, бл-ля! Гул-ляй, ребя-а!..». В бурном процессе непрерывного воинственного общения неожиданно завязываются новые знакомства, которые тут же скрепляются кровью навек откуда-то неожиданно подвернувшихся заклятых врагов. Таких же, в принципе, как и они сами, просто под кулак подвернувшихся… Затем, как это обычно водится, «враги» распивают традиционную мировую и, пару минут назад вовек непримиримые, уже обнявшись, как родные, распухшими губами дружно и громко поют:
Шир-рака-а стр-рана-а мая-я р-ра-адна-ая-а,
Многа в ней-й лесо-оф, палей и ре-е-ек…
В результате таких стычек – коротких и непродолжительных боев – у пацанов привычно заплывают подбитые глаза, опухают расквашенные носы и разбитые губы. Лица поразительно быстро меняют свои естественные очертания и формы, расцветают темно-коричневыми, темно-синими, зелеными, желтыми красками. Привычная картинка, как и там, в прошлом, на гражданке. Правда, ножи, кастеты и здесь не применяют, и упавших ногами не бьют – это западло.
Зал затихает далеко заполночь. Ребята спят здесь же, на грязном, заплеванном полу, вповалку – кто где, – без церемоний. «Чё там, паря, привыкай, уж!»
У салда-ата нелё-ёхкая слу-ужба…
Так нужна ему девичья дру-ужба,
Йех!..
Девку бы сейчас!.. – витает в душном, распаренном воздухе всеобщее желание. – Девку… девку… женщину… Женщ-щ-щ… щ… Йех!
В помещении окна и двери открывать не разрешали, было очень душно. Сильно воняло перегаром, мочой, табачным дымом, кислым потом грязных немытых тел, и еще чем-то специфическим вокзальным. Утром народ просыпался тяжело, в плохом настроении, новобранцы поднимались вяло.
– Тц-ц! – смачный плевок на пол. – Оп-пять эта очередь, бля, в туал-лет?! Одни зас-сранцы вокруг. Кошмар! Эй ты, пацан, – обращение абсолютно без разницы кому, так, вообще, подвернувшемуся. – Дай-ка курнуть?
– А ху-ху, не хо-хо? – Ответ звучит незамедлительно и определённо.
– Чё-о!.. Чё ты щас сказа-ал?
– Х… через плечо, я сказал!
– Ах, ты ж, падла…
Конечно, всё это беззлобно, легко, в норме дворовых отношений: зацепить, не спустить, ответить… В завершении процесса – легкая кулачная потасовка…
Домашняя еда у всех давно закончилась. Да и деньги, какие были, все уже ушли на вино, да курево. А поезд – и где он, падла, ходит? – за нами никак не идет. Какое уж тут будет хорошим настроение, так себе, говно, можно сказать, а не настроение.
Шум между тем в зале все нарастает и нарастает. Совсем незаметно привычный гул целиком заполняет собой все огромное пространство зала. Спокойно разговаривать уже невозможно, не слышно, нужно только кричать, лучше прямо в ухо… И вот уже, окончательно проснувшись, закружила обычная, нескончаемая людская круговерть – хаотичный, новобранческо-пацанячий муравейник, – дым коромыслом. Правильнее, бардак.
Моральный облик и некоторые физические внешние изменения лиц будущих воинов, произошедшие на данный момент, мы уже представляем. Они не на высоте. Но это у кого хочешь так будет… если часто быть на уровне пола!.. И они, если хотите знать, еще не в армии, они в ее преддверии. А это, извините, далеко не одно и то же. Как разница между рублём и червонцем… Может и больше!.. К этому дорисуем внешние отличительные черты призывника, те, которые сейчас довольно красочно и эпатажно, дополняют его лицо.
Вся приличная одежда, которую в дорогу – там ещё, дома! – с любовью приготовила мама и бабушка, будущими солдатами – призывниками – была категорически отвергнута: «Нет, нет и нет. И это… и это, – тыча пальцем в выстиранную и отглаженную одежду, заявили отроки. – Ни за что не надену! С чего это я буду красоваться?! Дурак, что ли!» Вот тебе раз!.. К ужасу женской половины семейного общества категорически отказались. А мужская половина – отцы – где ни попадя в это время бубнили сынам, с пафосной, конечно, интонацией, серию бесплатных наимудрейших отцовских патриотических лозунгов… Которые отроки, конечно же, слушали, но не слышали… Потому что были мысленно заняты ревизией гардероба – и своего и семейного.
В результате серии ожесточенных и продолжительных внутрисемейных боев – кое-где даже с успешным применением мужской – отцовской! – физической силы – видимый компромисс, в той или иной степени все же вроде был как-то достигнут. Отец – почти у всех так – бессильно махнув рукой на этого обалдуя, в сердцах привычно отыгрался на жене:
– Во-от, во-от!.. Видишь теперь, какого придурка ты воспитала? А я ведь тебе говори-ил. Говори-ил! Защи-итничек!..
Да пусть говорит, – кто его слышит!..
Еще раньше, до этого вокзала мы, призывники, прошли все положенные нам военкомовские кабинеты и комиссии. Да-да, и ту, где почему-то самая молодая, и почему-то самая красивая, с длинными ресницами, во-от такими огромными тёмно-вишнёвыми глазищами врачиха – я, например, точно её всю рассмотрел – на вид лет шестнадцати-семнадцати – самое то, деваха! – опустив глазки в свои тетрадки, строгим голосом неожиданно говорит тебе:
«Снимите трусы…»
Представляете, не кепку или майку, а…
А мы там, призывники, чтоб вы знали, в одних трусах по кабинетам рассекали. Только в трусах. Говорит это врачиха совсем неожиданно, беспардонно, или как там правильно сказать, нагло, в общем, прямо при всех присутствующих в кабинете, «сними трусы»…
– Ниже, ни-иже опусти, – даже сердится девушка, врачиха, то есть. – Совсе-ем! – Смотрит на тебя ни капли не краснея! – Оголите головку.
Ну, бля, вообще офонарела! Оголите головку, говорит, залупить, значит. Ё, мое! Как кувалдой по башке! Я, например, никак такого не ожидал. Не просто выстрел, а дуплетом… Ух, ты ж… Деваться некуда, оголяю…
– До конца-а, я сказала, оголите! – настаивает врачиха.
Представляете картинку, да? Голый васер!
От стыда и смущения я чуть не сгорел там на фиг. Ну, серьезно! Картинка – закачаешься. Стоит молодой долб… – я, то есть! – совсем без трусов, и при всем честном народе целит своим враз колом вставшим членом в глаза молоденькой девушке. Ёшкин кот!.. Все присутствующие в кабинете, криво ухмыляясь разглядывают его, тебя, а главное, ждут её реакцию. Классно, да? У тебя уже уши, считай, от стыда догорают, а она – молоденькая девчонка, хоть бы хны, спокойно так, равнодушно, как неподточенный карандаш рассматривает тебя и твой член. Полный атас!
И это не всё!
– Повернитесь спиной. – Громко приказывает. – Ноги шире. Ши-ире, я говорю, – продолжает пытать инквизиторша. – Наклонитесь вперёд. Ниже… Ещё ниже. – Она теперь разглядывает мой зад!! Кошмар! Стыдуха!.. – Та-ак, одевайтесь. – Небрежно бросает молоденькая врачиха, и что-то в листочках помечает. Фф-у, кажись отпытала. Спасибо, что хоть палец в зад не сунула. Но эта девчонка… эээ, то есть врачиха, опять неожиданно вдруг спрашивает, строго и требовательно, как завуч:
– Половую жизнь ведете регулярно? – ну, бля, прицепилась! Вообще ни в какие ворота… Какая там половая жизнь – только-только целоваться вроде научился. А в кабинете мгновенно повисает мертвая тишина. Пацаны, да и другие там врачи, военные в халатах галифе и сапогах, все, пряча ухмылки с интересом ждут: как ты ответишь!
– Д-да, конечно! – без запинки слетает у меня с языка, аж сам прыти удивился. – По-три раза в день. – И к ней, вопросиком. – А что? – мол, знай наших, бляха муха. И скорее трусы вверх, до самых подмышек, чтоб, значит, не сглазила. Вернее, чтоб отстала. Она понимающе-снисходительно хмыкает, и отворачиваясь, ставит точку: «Следующий».
Да-а-а… Шокирующим был для меня тот кабинетик, мягко сказать.
Весьма, весьма!..
Как подопытного кролика меня там разделали.
К тому времени мы уже много чего важного об армейской жизни знали. Например, что «старшина – отец родной». Тут, если по мне, так хуже и не надо. Я очень еще хорошо шкурой помню, как отец частенько широким офицерским ремнем меня «поливал» через плечо налево и направо – вправлял мозги, называется – за поведение. Что «ноги нужно всегда держать в тепле, голову в холоде, а живот в голоде». И тут я не согласен. Зачем это в голоде, зачем в холоде? Кто ж будет любить и достойно защищать такую Родину, которая не кормит своих же защитников? В этих «песнях» чувствовалась какая-то ошибка. Ошибка, ошибка. Как же иначе! Если армия родная… А она же родная! Конечно! Всем с пелёнок об этом говорят, везде и всюду… Родная, мол, красная, советская, значит, непобедимая… Тут всё понятно, это укладывается… Только с голодным желудком не вяжется… Не вя-жет-ся. Так недолжно быть… Нет!.. А может, это и шутка такая, армейская, чтоб новичков напугать… Да-да, наверное, так, шутка это, ага. Во времена Суворова оно может так и было, сейчас не проверишь, но уж в наши-то дни, извините. Еда – первое дело! Еда и… всё остальное. Знали мы, и как нужно одеться в дорогу. «Главная идея заключается в том, салага, – учили нас во дворе «бывалые» солдатской мудрости, – что все хорошее, годное, из вещей, конечно, у тебя, молодого, в армии все мгновенно отберут тамошние старики. Да-да, как пить дать отберут! Они только и ждут вашего приезда, точняк. Не пикнешь даже! Так что… Какой, значит, из этого делаем вывод? Правильно, молодой, нужно одеться так, чтобы им – этим старикам – там, в армии, ничего от тебя не досталось. Ни-че-го! Понял, салага? Ну и молодец, действуй, пацан. Благодарить не надо. Вернёшься – бутыль с тебя».
Вот почему проблему подбора личных вещей мы никому не могли доверить: ни папам, ни мамам, ни бабушкам, ни… никому – только себе.
Когда же родители, родственники, друзья, всякие там официальные лица и просто зеваки встретились на сборном пункте со своими любимыми чадами – будущими защитниками – с ними, в общей массе, произошел просто столбняк, местами переходящий в повальный. Видели картину Репина «Бурлаки на Волге»? Его типажи, ухоженные цветочки, против наших «ягодков». Ласковая сказка детям на ночь. У Репина тогда не достало такой фантазии, ему бы сейчас глянуть, о!.. Да так нас много – оборванцев – собралось, сами удивились, просто дикое и устрашающее нашествие получилось. Не все мамы и бабушки смогли удержаться в вертикальном положении, ноги их вдруг как-то ослабли.
Женская версия развернувшейся картины. Представшее перед ними воинство как бы пришло к военкомату через непроходимые джунгли. «Ой-ёй-ёй!..» Причем шли они, бедные, родненькие деточки, видать, очень долго. Очень!.. Всё на них изорвано, истрёпано, пестрело дырами и заплатами, – всё.
Вторая, мужская версия (защитная). Пацаны – сыны, то есть – желая защищать Родину, служить в родных советских войсках – как их отцы и деды завещали – прорывались к родному военкомату через тяготы и, понимаешь, лишения… ни описать, ни понять которые гражданскому человеку, особенно бабам, женщинам в смысле, просто невозможно. Патриоты они… патриоты, точняк, как и их отцы, – как пить дать!
Если серьёзно, кроме невнятного ропота в стане провожающих, внешне наблюдалось только заглатывание воздуха, почти без выдохов, вытаращенные глаза, отвисшие челюсти, вытянувшиеся лица… Представляете картинку? Так вот они были ошарашены.
Так ведь в том же ж и смак, люди, кто не понял!
Это всего лишь невинный, своеобразный пацанячий протест у них получился, у новобранцев, пусть даже и с вывертом. И не надо удивляться: вы их шокирнули армией, они – чем смогли. Так и должно быть. Все закономерно и нормально, как в природе, как в тетрадке-учебнике… Сила действия, равна силе… сами понимаете чего.
Без слез на эту массовку смотреть было действительно невозможно. Родители, с трудом признав в одном из, например, ужасных оборванцев свое любимое чадо: «Ах-х!.. Ой-ёй-ёй!.. Это… это!..» – и другие родственники, которые, конечно же, не признали, но тоже ахнули за компанию, просто уже рыдали. Родителей понять можно: стыдно, конечно, стыдно, позорит ведь семью, гаденыш!.. Говоря сухим бухгалтерским языком, слезы – процентов на восемьдесят – были именно по этой причине. А и правда, это как же нужно крепко не любить свою родную Советскую Армию, чтобы к встрече с ней, вот так вот страшно одеться, а?! Таких нищих и оборванных будущих защитников Родины, страна еще, слава Богу, наверное, и не видала. А и не надо!
Пожалуй, один пример.
Вы лучше присядьте или обопритесь на что-нибудь устойчивое, так для здоровья будет безопаснее.
Представьте… Грязная, выцветшая, с горелыми подпалинами, старая рабочая телогрейка. Сейчас она почему-то полностью инвалидка на один рукав, другой только ополовинен, как у безрукавки. Карманы набиты надкусанными батонами. Все это висит на бойце совершенно не эстетично, мягко говоря, как палатка на гвозде. Под телогрейкой видна провисшая до пупа линялая красно-белесая мужская майка. «Господи! – глядя на голую цыплячью грудь сына, со слезами и ужасом в голосе восклицает мама: «У нас такой майки сроду никогда не было. Такая! У нас!! Откуда? Како-ой стыд!»
Это не всё. Смотрим дальше Эта, выше описанная гордость – майка – заправлена в рваные с заплатами старые армейские галифе. Теперь у отца едва инфаркт не приключился, когда в этих галифе вдруг признал свои любимые рыбацкие штаны. «Эй, эй! А на рыбалку я буду в чем, а? Вот стервец. Ах, ты ж, сукин сын… Ах, ох!..» Ага, щас! Как ты теперь этого стервеца для расправы достанешь – никак! Он уже, считай, служивый человек. Уж теперь-то не по «зубам» отцовской руке.
А на ногах у него калоши. Да-да, именно, калоши! Почти раритет! Причем ноги без носков!..
«Ох, простынет, ой, заболеет! Ай, яй, яй! Ты посмотри, – всплескивает руками мама и сама себе дико удивляется, – я ж ведь их так хорошо вроде спрятала?!» Это она про калоши. Они, кстати, аккуратно прошнурованы белыми шнурками от китайских кед. «Как красиво зашнуровал, а! – замечает про себя папа. – Ведь может, стервец, когда захочет!»
На буйной сыновней шевелюре гнездится кокетливая летняя дамская шляпка… Новая!
Ну вот, теперь уже маме плохо!
Шляпка – её шляпка! – такая прелестная вчера и совсем-совсем ещё новая, теперь уже не имеет никакой формы, она вообще без верха – одни поля. Она уже просто «шляп» мужского рода. За спиной «стервеца» рюкзак – похоже рыбацкий! Точно он! Теперь уже и папочке плохо, уже узрел…
В ту сторону, где родители, смотреть пока не нужно. Они, как бы это сказать, еще пока не в себе. Им еще нужно как-то привыкнуть ко всему этому. Они еще не совсем готовы, они же первый раз…
Не-е, вы не переживайте за них, они сейчас отойдут. Они еще только своего красавца разглядывают, еще не нагляделись. Еще только своим сыночком ужасаются: ох, ты, да ах, ты!.. Потом ведь они и на других посмотрят. А сравнить там, я вам скажу, есть с кем. Во-он их тут сколько таких оборванцев собралось, целое войско. Увидишь – закачаешься. Ночью бы не приснилось – чур, чур! Экземпляры и похлеще есть… Тогда им и станет легче. Оно ведь всегда так, – чужие примеры… лучшее лекарство.
Кстати, если присмотреться, рюкзак у бойца набит чем-то напоминающим бутылочные формы. «Ты посмотри, – опять вскидывается отец. – Ах, ты, стерве-ец, ах, сукин сын. Водку он с собой, понимаешь, в армию набрал, а. С водкой, значит, служить собрался, да! Ну ничего-о, ты у меня сейчас попля-яшешь. Ты выпьешь у меня сейчас, ага! Сообщу вот сейчас дежурному офицеру – он тебе выпьет там. Будешь у меня знать!»
Всю эту живописную конструкцию призывника венчает молодая, еще ни разу в жизни не брившаяся, но совершенно нахальная физиономия с узнаваемыми, общими для его семьи внешними чертами. Почему именно нахальная? Да потому что умная. Он-то знает – не важно, что будет прохладно, не важно, что будет не очень удобно, не важно, что кому-то за него стыдно – важно то, что этим – страшным тамошним «старикам», в армии, ничего от него хорошего, в смысле одежды, не достанется. Отбирать-то у него, считай, и нечего. Понятно, да? То-то, тюти!
Заметим, на этом торжественном действии рыдали все. Даже те, кто случайно, неосторожно, сдуру, сказать, за компанию, попали на эти чудо-проводы-смотрины. Правда, потом родители опомнились, поплакали уже и по случаю самих проводов в армию, по поводу расставания с любимыми чадами. Это, конечно, это само собой, как уж водится. Без этого – армия не армия. На проводах в армию, да не поплакать. Что вы!.. Армия – это вам, понимаешь, не фунт изюму. Армия – это не… как бы это мягко сказать… Это… Нет, про армию мягко не скажешь, не получается, не тот образ, не радостный. Ладно, пусть не радостный, но торжественный, вроде даже праздничный. Так пойдёт? Нет, не пойдёт. Скорее торжественный. Хорошо, пусть остаётся только торжественный повод. Всё равно без слёз никак. Это да. В общем, помните те – оставшиеся бухгалтерские двадцать процентов? Как раз те самые слезы теперь и были, но уже действительно по-случаю.
Но «сердобольные» военкомовские работники – или случайно, или у них так все здорово отработано, вовремя поймали момент – предупреждая новую волну прощальных слез и завываний, удачно сворачивая мокрый минорный процесс – прокричали хрипящими динамиками несколько соответствующих патетических лозунгов. «Родина доверила…», «С честью и достоинством…», «Всегда, кому надо, дадим…», «Отпор заклятым империалистам…», «Никогда не уроним…». Под буханье барабана, скрежет труб духового оркестра, надрывно-радостно жующего «Прощание славянки», как похоронный марш, рассадили призывников по автобусам и скоренько так увезли.
Общий привет, Родина.
…Уплыл куда-то марш «Славянки»,
Вдали погасла звуков медь…
Кто из родственников и знакомых приехал на какой подручной технике, те сгоряча пустились вроде вдогонку, но не далеко, до ближайшего поворота, кто чуть дальше… Остальные – пешие – еще долго махали вслед платочками, другие голыми руками… Продолжая тихонько, кто горестно, кто радостно вздыхать: «Чего уж теперь?», «Ну, слава Богу!», «Ну, наконец-то… Всё!.. Уехали!.. Увезли!»
…Светло и грустно так вздыхая,
Затем по хатам разошлись.
А вот с будущими «гвардейцами» не так всё было просто.
В бодром темпе их привезли на станцию. Быстренько-быстренько выгрузили. Скоренько-скоренько пересчитали по головам: один, два, три, четыре, пять, шесть… двадцать два… тридцать пять… тридцать… «Левое плечо вперёд… Куда вы, куда, в другую сторону, в другую… Туда, да… Марш… Именно, вот. Топайте». Завели в здание и быстренько закрыли на замок. Учёные, видать! А может и по-уставу так положено. При этом, конечно же, мгновенно выставили круглосуточную военную охрану – внутри и снаружи. «Не подходить! Военный объект государственной важности». Ни туда, ни оттуда. Беспрепятственно пропускали одних только железнодорожников, отличительно блестевших мазутом или яркими красными фуражками. «Все, братцы, прощай, малая родина!» Вот теперь, действительно наступил полный «копец». И настроение создалось под стать похоронному маршу: «Там, там, та-рам! Там, та-ра-ра, там та-рам!..» Голимый «жопен» пацанам пришел. Кошмар, в общем! Хотя, все новобранцы внешне пытаются вроде хорохориться, мол, «А мне всё по-хер!» «А мне так трын-трава…», «А мне вообще…».
Одно хорошо, особо преданные друзья и подруги не подвели – молодцы! – выставили вокруг этого здания свои временные, тоже круглосуточные посты моральной поддержки и разного продобеспечения. Несколько самодельных «штаб-палаток» и пяток быстрых велосипедистов, из числа особо преданных младших пацанов, существенным образом обеспечивали оперативную связь с внешним миром. Несколько оперативно проделанных соответствующих дырок-отверстий в окнах здания – р-раз, так, сами и разбились кое-где стёкла! – позволяла круглосуточно обеспечивать – из рук в руки! – широчайший диапазон запросов будущих гвардейцев. Причем, если в начале заточения главной темой поддержки были только потоки слезных писем-записок – не забывайте, братцы, пишите! – и горячительное, то к исходу вторых суток продовольственные запросы стали преобладать и, затем, категорическим образом сместились только в сторону еды и бормотухи. «Жра-ать везите, братцы!.. Жра-ать!»
В штабе продподдержки крепко уже ломали головы над неожиданно свалившейся на них, прямо как снег на голову, катастрофически важной проблемы, если не сказать больше: как прокормить ораву резко заголодавших корефанов, будущих славных гвардейцев?! Каждый из продзаготовителей у себя дома и у родственников, у знакомых своих родственников и знакомых тех знакомых, которые знакомые других знакомых, на кухнях и в закромах, правдами и неправдами, уже оставил сюжет картины – «Мамай прошел!», один к одному. Но в штабе это рассматривалось только как подвиг: «Молоток, пацан, выручил!» А будущая домашняя взбучка, заготовителями, воспринималась как достойная награда – Герой Советского Союза, не меньше. И вообще, взбучка – это мелочи, это потом… О чем разговор!
Но главная задача оставалась. Она уже беспокоила хуже зубной боли. Ко всеобщему ужасу, она с каждым часом заметно усложнялась. Неизвестных величин становилось все больше и больше: где еще что из продуктов достать? как обеспечить? как накормить?.. Этого не знал никто. К такой проблеме просто не были готовы. Потому что таких задач в школе не проходили, никто такого не помнит, – даже отличники. Это точно.
Добровольцы-велосипедисты, бедняги, – задница в мыле – озадаченно накручивали очередной десяток километров уже в приличном радиусе от главного места действия. В ряде мест гонцов хорошо знали, уже ждали – кто с собаками, кто и с увесистыми палками. Там за ними гонялись с громкими воплями про какую-то мать!.. Конечно, опасные участки гонцам-велосипедистам приходилось предусмотрительно огибать. За заказами приходилось гонять объездными, более дальними дорогами. А это дополнительная трата времени, энергии… нервов! Они не успевали. Как ни крути, получалось, кругом – дело труба!
Между прочим, нам, новобранцам, еще там, на сборах объявили, что кормить будут только в поезде, когда поедем. А когда поедем, не сказали. Представляете? Вот же ж организация, твою мать! Да кто тут вообще что-то знает, в этом военкомате? Да никто. Многозначительно только прячутся за эту свою, блин, военную тайну… Но ничего, мы… как пионеры, всё это выдержим. Нам потому что некуда деваться!. Хотя его, этого терпежу, уже вроде и нету. Уже на исходе.
Каждое новое утро вся эта горластая орава мальчишек – нервных от голода, похмельной тошноты и неожиданных переживаний – активно рыщет в поисках корки хлеба, окурка, остатков бормотухи, недобитых вчерашних противников, свободного места в туалете, продовольственных передач, любовных записок и информации – ну когда же наконец, падла, поедем, а? кто знает?
Тревожили не менее важные вопросы: куда поедем? где будем служить? в каких войсках? Этого тоже никто не знал – военная тайна.
– Эх, на фло-от бы! – лирично, со вздохом тянет чей-то мечтательный, тонкий, совсем еще детский голос. – Там так-кая крас-сивая фо-орма, пацаны, мо-оре, ча-айки… Я в кино видел, закач-чаешься!
– Ты чё, керя, свинтился? – искренне поражается явной недальновидности его новый друг. – Там же на целый год больше служить. На фиг-га тогда это море сдалось с его качкой. Пусть оно там без нас плавает, соленое такое, нам и на земле хорошо.
– Плавает только говно! – Тонко, со знанием дела парирует знаток плавсредств. – А в море хо-одят. Понятно?
– А! – отмахивается корефан. – Какая разница – плавает, ходит… Я, например, пойду только в авиацию или в танковые. Я ведь трактор водить могу, да. Не веришь? Мне отец давал. Да! Он как-то, слышь, домой после работы опять пьяный приехал, ему надо было в гараж, а он где-то набухался, и перепутал дом с гаражом, представляешь? Мамка его уложила спать, а я взял и отогнал трактор в гараж. Да! Сам! Не веришь? Зуб даю! Ага! Завгар увидел меня, говорит, молодец, пацан, приходи работать. Возьму. – Продолжает хвастать тракторист-самоучка. – Да и вообще, слышь, ребя, лучше ездить, чем бегать, как эти придурки пехота, да, ты! – и мастерски, классно так, сплёвывает сквозь зубы далеко в сторону.
«И когда этот поезд, падла, наконец за нами придет, а?!» В очередной раз на секунду замирая, вслушивалась толпа.
Зал гудел, как реактивный самолет на прогреве двигателей…
Так вот и мотались пацаны с утра до вечера по этому залу временного содержания. А что еще было делать? Прерывались только на очередную громкую команду: «Шестая команда, строиться!», «Девятая команда…», «Первая команда…», «Четвертая…». Заман-нали! Раз по десять, наверное, в день кричат, чтоб, значит, не скучали мы что ли.
В первый день, услышав такую команду, с непривычки сердце мгновенно сжималось – все, началось, поехали?! Потом, правда, быстро привыкли, перестали пугаться. Нашли это забавным, даже развлекательным. А что? Классное кино получалось. Можно было посмотреть, развлечься, над пацанами похохмить и побалдеть. Очередное построение – только не свое! – встречали с большим удовольствием. В отличие от малоинтересных, привычных драк, это было большим массовым приятным развлечением. Заслышав команду, мы сразу же все свои разборки-братания бросали и быстро занимали первые ряды – если успевали – в качестве активных зрителей. Там было на что посмотреть и поучаствовать…
Слышите, вот, опять… «Да т-тише, вы, бля!» Очередное построение-представление. «Какая команда, какая?.. Тре-етья? Слышь, мужики, а третья, это чья, не наша? А мы тогда какая? Мы – девятая? А, тогда это точно не нам. Не нам, ур-ра, пацаны, впер-рёд!» Скорее в первый ряд, на первые места…
Разноразмерные, неуклюже-вялые, юркие, грязные, осунувшиеся, хитровато ухмыляющиеся, охрипшие, шмыгающие носом по привычке и откровенно сопливые, разукрашенные синяками – если не каждый, то через одного. Толкаясь, ставя друг другу подножки, отвешивая исподтишка оплеухи-подзатыльники и легкие беззлобные пинки, народ выполнял сложное армейское задание – построение в одну шеренгу.
Глядя на этих разукрашенных фингалами и шишаками, как боевыми наградами «гвардейцев», только теперь можно было по достоинству оценить вселенскую мудрость военкомовских работников – почему они спрятали своих подопечных от глаз их родителей. А потому вот, что ни одно родительское сердце, кроме, пожалуй, военкомовского, такого зрелища выдержать не сможет. Точняк, братцы, и проверять не нужно. Ну вот, опять это – слышите? – очередное построение-перекличка – не убежал ли кто? Да ха-ха – на тот замок! Ха-ха-ха – на всю эту перекличку!
Толпа радостно торжествующих зрителей, глядя на выстраивающуюся шеренгу, со всех сторон подает полезные советы: «подтянуть штаны», «одернуть рубашку, а то хрен, в смысле, член, видно», «фингалом не отсвечивать», «противогаз снять», «носки поменять», «зад спрятать». Вокруг сплошь остряки. В строю на это беззлобно огрызаются, отмахиваются, как от назойливых мух. Всё понимают, надо терпеть, – это представление такое, очередь просто пришла.
Одного из зазевавшихся на построение новобранца, где-то за внешним кольцом зрителей поймали, и силой удерживают. Он, понимая пикантность этой ситуации, деланно бьется в руках злоумышленников и, пытаясь привлечь к себе внимание, орет благим матом. «Эй, помогите! Эй, спасите! Карау-ул! Грабя-ат!» А его не слушают, никто не обращает внимания на его призывы, скорее наоборот. Всем интересен будущий эффект от этой маленькой «подлянки».
Шум общего беспорядка перекрывает сумятицу, гасит одиночные потуги, дробно и гулко бьется о стеклянные своды грязного вокзального купола. Всем вокруг весело – и пленнику тоже. Игра же такая, пацаны, ну!..
Военкомовский офицер, заложив руки за спину, отрешенно – весь сам в себе – медленно прохаживается перед строем. Делает вид, что ничего вокруг не слышит и не замечает, терпеливо и стоически чего-то ждет. Себе он сейчас видится наверное в образе Макаренко: мудрый такой, как толковый словарь, и спокойный, как серый валенок. А вокруг него, и в строю, бурлит пацанячья карусель, как в цирке, – все веселятся. Кто-то из пацанов, получив неожиданную затрещину, вдруг с шумом вываливается из строя. Едва не спланировав на пол, изобразив зверское лицо, но, одновременно косясь на реакцию офицера, как бы говоря: ну, видите же, видите, я же не виноват, это они, – мальчишка яростно крутит головой, размахивает руками, ищет своего обидчика. Не найдя, для разрядки дает легкий тычок ближайшему от него, и тут же получает сдачи. Возникает легкая, но теперь уже яростная потасовка в которой участвует уже несколько человек. А народ вокруг, глядя на это «кино» гогочет и покатывается со смеху, бьется в истерике. Ну, действительно, чем не цирк?
Пожилой военкомовский офицер, со скепсисом и великим терпением на лице, вдруг неожиданно противным, совсем как у школьного завуча, ну там, ещё вчера, на гражданке, тонким голосом кричит: «Ма-а-ал-лчать команда. Сми-ир-рна!»
От неожиданности – в-во, даё-ёт! – буквально на секунду в зале возникает тишина… Потом, оценив «шутку», становится еще жарче, в смысле веселее. Даже возникают настоящие аплодисменты, мол, молодец, дядька, так держать, гони концерт дальше!
Так и не дождавшись одному ему ведомого порядка, офицер начинает перекличку своей команды.
– Алфёров. Алфё-ёров!.. Так, а где Алфёров? – беспокоится проверяющий. В строю все с видимой заинтересованностью крутят по сторонам головами, и зрители тоже, а, действительно, где этот Алфёров, куда делся этот козел?
– Чё, Алфёров, тута я, – раздается откуда-то издалека. Это как раз тот пацан, который «караул!» орал. Он все еще продолжает биться в живой загородке, словно голубь в клетке.
– Пач-чему не в стр-раю? – так же глядя куда-то в пол, спокойно и простодушно, но с явной угрозой в голосе, любопытствует капитан.
– Да щас я… шнурки вот развязались, – хрипит в муках яростной освободительной борьбы находчивый Алфёеров.
Пора уже выпускать ясно-сокола. Ап, пендаля ему… Получив вдогонку мощный и звучный пинок, Алфёеров – материализованная подлянка, – как камень из рогатки, с дополнительным ускорением летит прямо на офицера. Точняк летит. Сейчас будет копец дяде! Коп… Эх, увы, нет! Гляньте, гляньте, мастер какой, смазав подлянку, виртуозно извернувшись от неминуемого, казалось бы столкновения с офицером, Алфёров шмякается в строй, словно яйцо об сковородку, пытается встать там на место. Ха, парень, все места давно «раскуплены». Как говорится, извините, свободных мест нет – не нужно опаздывать. Капитан, так же отрешенно глядя в пол, спокойно – руки за спину – выжидает. Алфёров в это время, словно муха о стекло безуспешно бьется в упругую стену живого забора. Что-то там еще зло жужжит себе при этом, тычется в нее, железную, где плечом, где руки топориком, извивается как уж телом, пытается силой втиснуться, врубиться в непривычно монолитную стену строя. «Ага, щас, тебе!» – написано на хитро-смазливых лицах его товарищей. – «Бесполезняк пришел!» Безуспешно таким образом перебрав все звенья длинной цепочки, взмыленный Алфёров почти с боем, уже в рукопашную, доходит до хвоста строя – там самые маленькие. Только здесь ему удается успешно завоевать предпоследнее место. Офицер, оттопырив нижнюю губу, искоса с деланно укоризненной миной наблюдает за ним: «ну-ну!..» Вот он, «Макаренко», склонив голову набок неспешно подходит к «мученику» и, наигранно брезгливо взяв его двумя пальцами за рукав, переставляет на место последнего – замыкающим, ставит, тем самым, точку. Теперь длинный и худой Алфёеров похож на всклокоченного индюка в стае подросших цыплят, причем, на чужом огороде.
При виде этой картины зрители взрываются ещё большим радостным, благодарным ликованием, даже аплодируют капитану, ну, молоток, точняк, дядя, цирк! Алфёров делает вид, что он страшно обижен, смертельно оскорблен, пыхтит там себе что-то – ну, бля, мол, подождите, дайте только срок, – всем отомстит. А пока, гневно сопя, разбрасывает глазами во все стороны страшные карающие молнии. Один-в-один Змей-Горыныч.
Капитан приступает к прерванной перекличке. Далее, без остановок, доходит до буквы «с». «Соловьев… А где Соловьев?» – опять спотыкается капитан.
Это какой Соловьев? – переглядываясь, дружно интересуется строй.
– Эй, люди, кто у нас Соловьев? – К фамилиям тут не привыкли, да и зачем… – Что ли который с большим шнобелем?..
– Жека, что ли… длинноносый, который еще белобрысый?
– Так он в гальюне, гражданин майор, который шнобель, – обрадованно-взволнованным голосом докладывает чей-то ломающийся басок. – У него там очередь. А я за ним.
– Ты чё? Я за шнобелем!
– Нет, я. А за мной Леха-рыжий, а уж потом ты. Понял?
– А вот хрена тебе. Я занимал еще когда ни тебя, ни рыжего там вовсе и не было…
– Как это не было? Ты, чё, по сопатке что ли схлопотать щас хочешь, да?
– Я-а-а! Это от кого это по сопатке?
– Щас узнаешь от кого – проверка кончится…
– Ага, давай, давай, я погожу!..
– !!
– У Соловьева, наверное, понос, товарищ… это… А можно я за ним сбегаю?
– И я!.. И я! – сыплются из строя бескорыстные товарищеские предложения.
– А-ат-ст-тавить р-разговоры! – Распевно, окриком, обрывает «пионерские» дебаты капитан. – Щас вы все тут у меня… обкакаетесь. Смир-рно! – Грозит и продолжает, сквозь смех и стоны окружающей толпы, назидательным тоном. – И не гражданин я для вас, а товарищ – это во-первых. И не майор, а товарищ капитан – во-вторых. Ясно? Различать надо…
– А старший лейтенант, это сколько звездочек?
– А майор, сколько?
– А когда поедем?
– А когда жрать дадут?
– А можно я домой быстро-быстро за папиросами сбегаю?.. Мы тут уже все съели.
– Эй, ты, нюня, может тебе мою грудь дать пососать, а, сынок? – участливо предлагает кто-то из среды восторженных зрителей. – Иди скорее, на-на, пососи.
Подтрунивает, гогочет, развлекается молодежь…
– Гражд… то есть эта, товарищ капитан, ну правда, когда нам жрать дадут, а? У нас уже кишка кишке протокол пишет. А?
– А правда, что нас на границу, в пограничники повезут? – сыплются на бедного капитана один за другим труднейшие вопросы.
Что отвечать, – устало полуприкрыв глаза, думает капитан. «Детский сад! Пацаны! Потешные войска, ядрена вошь. Скорее бы поезд пришел, да увез бы вас отсюда к едрени фени… Как всё это надоело… Одно и тоже, одно и… Но ничего, ничего, там-то вас быстренько обломают. Там не у мамки под юбкой прятаться, да соску сосать». И уже вслух скептически продолжает:
– Таких вот засранцев, как вы, да на границу!.. – присутствующие зрители, ликуя от точного замечания, восторженно ревут, не возражают. – Куда повезут, – выждав паузу, продолжает капитан, – туда и поедете! Ясно? – и не дожидаясь ответа ставит точку. – Всё, р-раз-зойди-ись! – Через секунду спохватывается, но не успевает досказать, строй и все окружение, весь зал, дружно и весело ревут:
– Да-Ле-Ко-Не-От-Хо-Дить!
– Да, вот именно, – чуть растерянно, но уже весело, расплывается в довольной улыбке офицер. – Н-ну, вы, даете, понимаешь!.. На ходу подмётки… это…
Толпа, удовлетворенная произведенным эффектом дружно гогочет, и тут же рассыпается на привычные для нее хаотичные, не поддающиеся армейской логике, образования.
Всем нужно срочно обежать и проверить главные точки своего бытия. Оценить загруженность туалета. Где-нибудь стрельнуть какой-нибудь еды от чьей-нибудь передачи. Найти какой-нибудь окурок-чинарик. В оконную дыру переговорить о последних новостях с той, гражданской, стороной, да мало ли чего еще…
О, а вот и радостная новость: от группы внешней продподдержки поступила очередная передача, причем в наш адрес. У-у! Нам! Ур-ра!
Передачи в последнее время стали почему-то большой редкостью. То ли там пацаны халтурили, то ли предательски недооценивали наш почти голодный уровень содержания, но передачи стали поступать недопустимо редко. Редкими, но от этого во много раз желаннее и дороже.
Как бы мы бесцельно ни крутились по залу, основными объектами нашего внимания были не столько офицеры с их командами на очередную проверку, сколько, главным образом, места передач посылок, особенно с едой. Адресованное тебе письмо или записка, если и затеряются, то ненадолго – тебя обязательно найдут и передадут. А вот с едой тут запросто можно пролететь. На продуктах ведь не написано, как на конверте, что это именно тебе, что это только твое. Твой кусок хлеба тебе могут добросовестно нести, нести, нести… и просто, совсем случайно так, не донести. Так уже было… И это плохо, это обидно, и всем голодным коллективом обычно болезненно, прямо до мордобоя, трудно переносится. Да! Естественно, что этот «больной» участок у оконных проёмов был у всех групп под особым контролем. Там обычно дежурили не самые слабые, но, как часто в последнее время оказывалось, самые голодные. Они запросто умудрялись втихаря съесть нашу общую, принадлежащую всей группе, продпередачу. «О-о! Что, опять? Сожрали!.. Ах, ты ж, гадство!..» – зверели объеденные, в смысле обделенные пацаны. Для тех, для проглотов, приговор приводился в исполнение тут же на месте, без суда и следствия. Да и какое там может быть следствие, когда они, гады, давясь и судорожно еще глотая, убеждают нас, что это у них как-то случайно получилось, само собой, что они не хотели, что они тоже удивляются… и так далее. Прощенья нет!.. Пощады тоже.
В этот раз мне досталось полстакана фиолетового «денатурата» и одна редиска. О! Это мне, считай, очень и очень повезло, что я, вот так вот, пусть и случайно, но вовремя оказался рядом: и в момент передачи, и в момент распределения порций. Другим пацанам, пока узнали, да пока передислоцировались, вовсе ничего не досталось. А и правильно, не нужно, понимаешь, варежку разевать!.. Закон у нас такой.
Вообще-то я не пью. К этому официальному заявлению могу добавить один, непонятный пока для меня самого, но странный, по мнению моих сверстников факт, что мне и не хочется почему-то пить ни водку, ни вино, и даже никогда и не тянет. Ага! Странный какой-то феномен. И я порой сам себе удивляюсь: почему это так? Почти все пацаны запросто, с удовольствием пьют из горла, из какого стакана, а ты нет, сидишь у них, как дурак на общем празднике… или белая ворона. Не хорошо это. Подначки всякие от пацанов терпеть приходится, но что делать, если она в меня не лезет? Не лезет она в меня и все. Один ее запах чего стоит – ф-фу, какая гадость! И какой дурак её придумал? Это же инородная для человека суспензия. Сплошной вред, организму, обществу, природе… Всем, в общем.
К этому времени мой профессиональный опыт, в смысле разовый и суммарный личный рекорд, составил не много ни мало – один стакан «Зверобоя». Причем, полный и сразу. Хоть и недавно это было, но помню всё плохо.
Это было в прошлом году, причем, тоже на проводах в армию. Тогда меня старшие ребята к себе на проводины пригласили. Я, к сожалению, немного опоздал за стол, и мне сразу налили штрафную – закон такой у взрослых – на, сразу целый стакан, «пей, парень, до дна». Как сейчас помню – стакан был граненый. Ещё помню напутственную фразу уже захмелевших пацанов, последнюю тогда фразу: «Давай, Пашка, догоняй!» Я естественно выпил, не сопляк же. Отключился сразу, едва только уплывающим взглядом по вкусной и обильной закуске мазнул. А еды там было!.. О-о! Сейчас бы туда… А какая еда на столе была, – закачаешься. Не догнал я пацанов, вернее обогнал, – упал там же, даже не качнулся. О том, что было дальше не помню, и вспоминать не хочется: тошнотворно-вонюче-неприятное состояние. Никому не советую – голимая черная проза. Самый настоящий зверо-убой. Бр-р-р!
Я бы и сейчас этот самогон, или как его, с удовольствием бы променял на горбушку хлеба, который всему голова. Но хлеб, вижу, уже доедают, а стакан, кстати, тоже подозрительно граненый, вот он, у меня. Все поровну, все справедливо. Выхода получается у меня нет, нужно пить. По залу же со стаканом не пойдешь, с кем тут меняться, да и быстро отберут, и твоя группа поддержки не поможет, она просто к тебе не успеет. В общем, каркать, как та ворона на суку, нельзя, у тебя не сыр, а считай, драгоценная огненная вода, – что, всем понятно, на порядок выше… да и пацаны смотрят.
Глыть, глыть!.. – выпил. Ха-к!.. Дыхалку мгновенно перехватило, – совсем как два года назад, – и заклинило самым нехорошим образом, как раз на самом безвоздушье, ни туда поршень, ни обратно. Глаза, от такого мгновенно постигшего «удовольствия», уже где-то на лбу, как у той камбалы, и ртом я так же беззвучно, как и она на пустынном берегу, сигнализирую всем – помогите! Вот же ж ты, га-адость какая, а! Уу-ух!.. Тот «Зверобой», конечно, был зверь, но это еще зверее. Сказать еще ничего не могу, но вижу, вокруг блестят завистливые глаза ребят, они заглядывают в лицо, как бы спрашивая, что же это я такое хорошее выпил, а? А у меня в горле и желудке полыхает яростный костер, горит там, все напрочь собой выжигая… Воздух… возд… Х-ха-а-а!.. А-хх… Продавил! О-о-о!.. Скорее качаю воздух туда-сюда, дышу, как загнанная лошадь, гашу «животный» пламень. В смысле, пламя в животе. На глаза навернулись слезы, окружающий пейзаж, вместе с расфокусированными, странно почему-то вытянувшимися и пульсирующими при этом человеческими лицами, дрогнув, размываясь в своих серых и плоских очертаниях, куда-то поплыл. Ноги мои ослабли… я вроде сел… кто-то сунул мне окурок… я глотнул едкий дым, закашлялся. Потом все стремительно закружилось в голове, поплыло… То в чёрную точку уходя, то спиральными кругами возвращаясь… В желудке задергались жуткие спазмы… мне стало плохо, стало тошнить… Ма…
Потом все было как в тумане: меня куда-то, кажется, таскали… перетаскивали… или передвигали… или перекатывали… Не помню. Звуков я практически не слышал, и ничего уже не соображал.
Потом я вообще отключился.
Наступил мрак. Полный мрак… Мрак…
К исходу третьих суток, измочаленная свалившимися на них проблемами группа продовольственной поддержки, сбившись с ног от усталости и голода, вконец причесала, как варварская саранча поля несчастных крестьян в зоне досягаемости колес своих неутомимых гонцов-велосипедистов. Продналёт для всех оказался катастрофически быстрым и неожиданным. Как говорится, сначала замёрзли, а потом заметили, что, оказывается, мы полностью раздеты. Группа продподдержки нанесла округе и себе непоправимый материальный и моральный урон, при этом полностью – важный фактор! – исчерпав свои силы и возможности. Было грустно. Все понимали: новобранцы уедут, а они-то здесь останутся, понимаете, и объяснения с родителями и другими пострадавшими, наверняка в грубых тонах – уж, только в грубых! – у них ещё впереди. Каково это осознавать, а? Правильно, тоскливо. Теперь скажите, кому хуже – тем, которые уехали в какую-то неизвестную и далекую армию, или тем, которые здесь, со всеми известными и близкими, уже завтра, ощущениями, остались, ну? Конечно, тем, которые остались, скажете вы. Правильно, и пацаны так считают. Вот об этом предстоящем «завтра», сейчас совсем думать не хотелось. Утешало только одно: долг перед своими корешами-пацанами, они выполнили полностью, в грязь лицом не ударили, и им не стыдно. Да-да, не стыдно! И это главное. А предки… А что предки? Предки, они и есть предки – старое, тёмное поколение. Первый раз, что ли… терпеть их? Х-ха! Шмыгают носами пацаны-велосипедисты, пряча за небрежной ухмылкой грустные глаза. Пробьёмся, поддерживая, говорят между собой, не впервой.
В общем, так бы, наверное, и полегли голодной смертью и те и другие, если бы к исходу третьих суток где-то близко не тутукнул долгожданный гудок, и в 22 часа 16 минут местного времени железнодорожники, прониклись видимо жалостью к голодающим новобранцам, подали «дяденьки» подвижной состав под стратегическую погрузку – пожальте бриться, господа! О чем, конечно, пацанячья внешняя разведка незамедлительно, прыгая и воя от радости, мгновенно донесла до не менее заинтересованной, голодающей в заточении стороны.
Прощание, как и погрузка призывников в вагоны, было недолгим, по-мужски суровым и сдержанным. Ни сил, ни слез ни у той, ни у другой стороны уже не было. Все смертельно устали, просто выдохлись. Но у одних впереди был рассвет – то есть встреча с родной армией, праздник. А у других – тьма, – встреча с разъяренными предками. Эх!.. Эти, которые другие, сейчас бы с радостью поменялись местами с отъезжающими, но увы!
Состав, гулко дернув железными сочленениями, мягко набирая скорость, вдруг неожиданно покатил… Уже? Так быстро? В окнах забелели размазанные очертания прилипших к стеклам лиц. Знакомые и незнакомые лица, дергаясь и кривляясь в восторженно-плаксивом танце, что-то беззвучно там кричали… «А? Что? Что?..» Но ни понять, ни догнать было уже невозможно.
Простучал на стыках последний вагон…
Тёмная, стальная железнодорожная гусеница, набитая до отказа нервно дергающимися в полуистерике молодыми пацанами, правильнее сказать новобранцами, некрасиво вихляясь и извиваясь на поворотах, предостерегающе светя тремя красными точками фонарей на своей заднице, быстро растворилась в глубине ночи, – ту-ту.
Вот теперь, братцы, действительно всё! Действительно ту-ту!