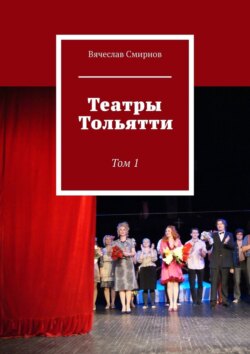Читать книгу Театры Тольятти. Том 1 - Вячеслав Смирнов - Страница 10
«КОЛЕСО»
Мне повезло в первой же роли
ОглавлениеЗаслуженный артист Российской Федерации Юрий Репин недавно отметил свое 65-летие. Вчера в «Колесе» состоялся бенефис в честь старейшего актера театра – зрителям был показан спектакль «Вальс одиноких».
В «Колесе» Юрий Александрович сыграл свыше десятка ролей в спектаклях по произведениям Гоголя, Чехова, Островского, Булгакова, Шекспира. В 45 лет, отданных сцене, вместилось несметное количество персонажей и образов, сыгранных в театрах Горького, Харькова, Ташкента, Калининграда, Томска, Липецка. Предполагая волну интереса, связанную с юбилеем, мы пообщались с Юрием Репиным незадолго до бенефиса.
Шут гороховый
Корр.: С чего начиналась ваша актерская карьера?
Репин: К этому делу я прикасался с младых ногтей, даже в детском саду и школе всегда с удовольствием выходил на сцену. После окончания школы хотел учиться в Новосибирском театральном училище, но родители убедили меня, что это не стоящее дело, и я поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт. Через два года я понял, что это не мое, и поехал в Москву поступать в театральный институт. Со стороны близких было полное неприятие: «В шуты гороховые решил податься!» – так воспринималась моя мечта окружающими. Несмотря на конфликт с родителями, я поступил в ГИТИС, окончил его, и первый мой театр был в Горьком. Это теперь молодежь много играет, а тогда было другое время и мы должны были в основном заниматься малюсенькими ролями. Но мне удалось в свое время сыграть много стоящих ролей. В пьесе Юрия Петухова «У моря-океана» у меня был прекрасный партнер Владимир Яковлевич Самойлов, потом уехавший в Москву и ставший народным артистом Советского Союза. Я благодарю Бога, что мне повезло в первой же роли выйти на одни подмостки с этим человеком. Он уже тогда был чрезвычайно известен: на всю страну «прозвучал» фильм с его участием «Секретарь обкома». Вот это был мой дебют. Спектакль получился неплохим.
Корр.: За годы творческой работы вы сменили много городов и театров. Как психологически ощущается перемена окружения и местожительства?
Репин: Это издержки актерской жизни. Люди по разным причинам переезжают и меняют работу. Я за свою жизнь сменил семь театров. Кому из актеров рассказать – на смех поднимут: «Я вон за пять лет восемнадцать театров сменил!» Ну чего ищут? Ищут зарплаты. Но я искал ролей. Меня легко можно было сманить на новое место, предложив интересную работу. Из Горького меня сманили через год в Харьков. Хотя в это время меня звали в другой театр, но встретил близкого по духу режиссера, с которым учились у одних и тех же педагогов, и уехал. Вы знаете, я никогда не жалел, что сменил то или иное место, что в оставленном театре мне было бы лучше. Нет, это была бы другая жизнь.
Невосполнимая потеря
Корр.: В каких театрах, какие роли были для вас наиболее интересны? Какие роли вы считаете наиболее удачными для себя:
Репин: С удовольствием вспоминаю Горький: это была моя молодость, мое удачное начало. В Харькове я играл больше ролей, но я там и работал больше – три сезона. Я с удовольствием играл Тузенбаха в «Трех сестрах» Чехова. Мне удалось сыграть Николая Островского в пьесе Юрия Пильцева «Девятый сюжет». С удовольствием играл детские сказки, стал популярен после спектакля «Город без любви». Я играл там такого «перевертыша», клоуна, как в русских сказках: он хоть и был Иванушкой-дураком, но говорил правду. Единственное, о чем я сожалею: когда уехал из харьковского театра, то узнал, что должен был сыграть Арбенина в «Маскараде» Лермонтова. Я всегда хотел сыграть эту роль, правда, в то время, может быть, и не стоило мне ее играть, все-таки Арбенин – зрелый человек. Но когда я узнал, что потерял ее, – сильно переживал, хотя уже работал в Ташкенте и очень много играл: Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева, Леву Аграновича в «Городе на заре» Арбузова, Игоря Шаронова в «Поре любви» Катаева. Но все равно я «затылком чувствовал» эту потерю.
Корр.: Встреча с какими актерами, режиссерами наложила значительный отпечаток на вашу актерскую судьбу?
Репин: Мне действительно повезло в том, что в Горьком я вышел в первой же роли с таким мастером, как Владимир Яковлевич Самойлов. Я и тогда, и сейчас считаю его одним их своих учителей.
В Ташкенте мне повезло работать с режиссером Иосифом Радуном. Это был удивительный человек. Не знаю, что уж он во мне увидел, но он с интересом работал со мной.
В калининградском театре был такой Ельцов – красивый, громадный мужик, мощный артист, хороший режиссер. Это тоже человек, которого я считаю своим учителем. Мы вместе сыграли в «Сказках старого Арбата»: он играл отца, а я сына.
В Липецке таким другом-учителем был Соболев. Он был старше меня лет на двадцать, мы с ним вместе играли в чеховских спектаклях. Я был знаком и общался с моим любимым артистом Олегом Янковским, с Михаилом Казаковым, я играл вместе с Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым – они приезжали в наши театры и участвовали в наших спектаклях. В «Дяде Ване» Евстигнеев играл Серебрякова, а я дядю Ваню, а Табаков участвовал в нашем спектакле «А поутру они проснулись» по Шукшину.
Всех испортил жилищный вопрос
Корр.: Что привело вас в тольяттинский театр «Колесо»? Как вы ощущали себя первое время, как ощущаете сейчас?
Репин: Честно говоря, я потерял липецкий театр: у меня случился конфликт с художественным руководителем, и я вынужден был уйти. Долго не мог найти работу, даже в Москву звонил. Я ведь человек уже немолодой, поэтому сразу встали бытовые проблемы, связанные с жильем. А зарплату я получал в липецком театре больше всех. Когда приехал сюда, то первое время думал, как можно прожить на такую маленькую зарплату, хотя всюду слышал, что в тольяттинском театре ТАКИЕ зарплаты и что все артисты прекрасно живут. С Глебом Дроздовым мы дружили во время учебы в ГИТИСе: он учился на режиссуре, а я – на актерском. И когда я ему позвонил, он меня позвал. Все решило только то, что здесь все-таки давали жилье, потому что оплачивать квартиру в Москве по нынешним временам невозможно. Ау меня еще сын учился в политехническом институте в Липецке, жена-«декабристка» из-за того, что у меня конфликт, тоже бросила квартиру, швырнула заявление и ушла. Я говорю: «Что ж ты делаешь-то? А кушать что будем?» Так я приехал в «Колесо». Первые впечатления от театра были достаточно сложные. Понимаете, театр всегда такой, каким его хочет видеть город. Когда я увидел спектакли этого театра, я подумал: «Как же так? Почему же так?» Поначалу мне казалось, что это не мой театр, зря я сюда приехал. Но, как видите, уже одиннадцать лет играю здесь, театр стал моим. И город тоже.
Тольяттинскому зрителю не повезло
Корр.: В разных городах разный социум, разные ориентиры. Ощущается ли какая-то специфика зрительской аудитории?
Репин: Конечно. Поэтому и говорят: «театральный город», «нетеатральный город». Все дело, конечно в «толщине» культурной прослойки: ведь основным потребителем нашей «продукции» является интеллигенция. Где интеллигенция мощная, там она диктует театральную моду. Мы же не можем предложить городу то, что, по нашим представлениям, не будет иметь спроса, поэтому, конечно, зритель влияет на театр и диктует, каким ему быть. Здесь многое определяет творческая личность художественного руководителя, но ведь все-таки это производство, это работа, которая кормит артистов и коллектив театра. Нельзя же встать на дыбки и сказать: «Нет! К нам зритель не ходит, а мы все равно будем ставить высококультурные, высококачественные спектакли! Будем стремиться к театральному искусству!» Такие эксперименты печально кончаются. Хочешь – не хочешь, а придется подлаживаться, думать о том, что воспримется публикой, что будет иметь спрос, на что пойдут зрители и за что понесут свои денежки в кассу? Тут можно говорить о том, что в каком-то городе высококачественная драматургия пройдет, будет иметь спрос и даже успех, а вот в этом городе нужно ставить «ломовую» комедию. Тольяттинскому зрителю не повезло: громадный город не областного масштаба, будучи крупнее многих городских, губернских городов, долгие годы существовал без театра. Поэтому, естественно, существует некая зрительская неискушенность – зритель здесь привык к эстраде. Какие же требования можно предъявлять драматическому театру? Перед ним стоит другая задача.
Корр.: Что ощущает актер, поставленный перед дилеммой: либо поднять зрителя до своего уровня, либо, поскольку нужна «касса», опуститься до зрительского уровня самому?
Репин: Это смотря по тому, что актер ставит во главу угла. Если актеру нужен успех, популярность – то, конечно, приходится опускаться. А если актер замахивается на роль «учителя жизни» – тогда не изменяй себе.
Корр.: А совмещать не получается? Или это настолько разные вещи, что они несовместимы?
Репин: В принципе, это разные вещи и теоретически несовместимые, но жизнь – она так устроена, что куда деваться? Ты лишь определяешь для себя планку, ниже которой опускаться уже не стоит.
ТО №233 (896) 18.12.2003