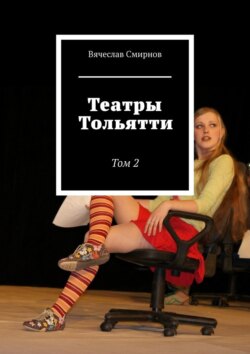Читать книгу Театры Тольятти. Том 2 - Вячеслав Смирнов - Страница 45
ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ШКОЛА ДРАМАТУРГИИ
«Майские чтения – 2003»: выживая вопреки
ОглавлениеМожно смело сказать, что 14-й фестиваль «Майские чтения – 2003» состоялся. Не удался, а именно состоялся, вопреки ряду обстоятельств – от отсутствия государственного финансирования и поддержки со стороны властей до мелочей-недоработок в самих спектаклях на Голосова, 20. Было все – и премьеры спектаклей, и читки (представление авторами собственных пьес), и показы уже сработанных постановок, и почетные гости из Франции, Москвы, Санкт-Петербурга. И то, без чего никогда не обойдется ни один фестиваль, ни одно мероприятие – зрители, добросовестно отыгравшие свою роль в ходе спектакля. Роль барометра.
Премьерный контраст
В отношении театральных премьер фестиваля на Голосова, 20 зрителям пришлось немало попотеть, чтобы определиться со своей позицией к ним. Прошли с успехом читки пьес тольяттинских драматургов Юрия Клавдиева («Лучшее преступление»), Вячеслава Дурненкова («Три действия по четырем картинам»), прозвучала новая пьеса и Вячеслава Смирнова (о работе нетольяттинских драматургов – чуть ниже). Проблема же остальных заключалась в том, что большинство из них, как это странно ни прозвучит, зависли между разными и противоречащими видами драматургической работы. Это, разумеется, не является недостатком, скорее, недоразумением. Имеется в виду та чрезвычайная расплывчатость жанра, с которой некоторые из произведений – «Культурный слой» Дурненковых Вячеслава и Михаила, «Fashion» Вадима Леванова и Михаила Дурненкова – остановились где-то между читкой и представлением пьесы (заметим, не постановкой, а именно представлением). При этом в программе были заявлены показы пьес, что, видимо, и внесло некоторую сумятицу в сознание пришедших на готовые и уже отработанные произведения, а вместо этого очутившихся почти на репетиции. Так это случилось с «Fashion», к сожалению, оказавшимся слегка сыроватым даже для неискушенной тольяттинской публики. При всем при этом можно отметить совершенно выдающуюся игру актеров в пьесах Дурненковых, где лидировали, конечно, Юрий Клавдиев и Михаил Дурненков («А что делать? Приходится играть, если нет актера…» – М.Д.). Здесь можно сослаться на низкий профессиональный уровень создателей, можно сетовать на то, что «режиссер не должен быть у себя актером», но не стоит упускать из внимания одно: для первых постановок этих ребят увиденное нами в пятницу и воскресенье вечером было очень и очень неплохим зрелищем. Уйти, во всяком случае, со спектаклей не хотелось никому, никто и не ушел – это многого стоит…
Более благоприятно ситуация обстояла с премьерами пьес московских и питерского режиссеров. Пьеса «Дурдом» в прошлом прозаика, потом хакера, а теперь заслужившего почетное звание драматурга москвича Виктора Айсина была разыграна шестью актерами вживую, т.е. без предварительной читки. Происходившее в эти полтора часа с начала читки напоминало неуправляемый (хоть и постоянно по-смешному фыркающий) «Автосан». Те же Дурненков, Клавдиев, Смирнов и другие актеры так вжились в роли, настолько проросли (!) в своих персонажей, (больных и еще более больных), наделив их почти что человеческими чертами, что впечатление от читки (!) было почти как от фильма «Дом дураков» Кончаловского. Слово автору:
– Что ты испытывал, когда видел на сцене спектакли, поставленные по твоим произведениям?
Виктор Айсин, прозаик (Москва): Чувствовал себя каким-то демиургом. Хотя как прозаик демиургом я и являюсь – создателем текстов, ситуаций. В то же время ощущал восторг и трепет. Все органы, как внутренние, так и внешние, вибрируют, испытываешь что-то вроде страха от того, как будет жить твой мир, как публика на это посмотрит… На самом деле трепещут, как я понимаю, все, потому что я видел – и Дурненков тоже трепетал, хотя он вроде бы уже более-менее матерый драматург – по сравнению со мной, во всяком случае. Если сравнивать с прозой, например, разница довольно значительная, потому что проза – это мир, который изображен на бумаге, и каждый его читает и у себя в голове воспроизводит. То есть он воспроизводится каждый раз, когда прочитывается, и он разный для каждого. А тут он объективно вроде бы един и воспроизводится вне бумажной страницы. То есть ты его видишь вместе с другими. В общем, амплитуда впечатлений большая.
«Бамбукоповал»: эффект разорвавшейся бомбы
В арсенале у Никиты Емшанова – тамбурин, клоунский нос, листок бумаги, большой помидор. А также мимика Хазанова, пластика Гоши Куценко и харизма Эвана Макгрегора – сам Никита на это не обращает внимания. Природные это качества или заимствованные, он использует их во имя одной цели – прокричать, проорать гимн любви к этой жизни, которая иногда позволяет нам совершать глупости. Правда, лишь во имя одной цели – опять же любви к ней…
Спросите любого постоянного зрителя «Майских чтений – 2003» о самом главном потрясении на этом мероприятии, готов спорить, что ответом будет многосложное слово – «Бамбукоповал». Двое москвичей, студентов ГИТИСа, Никита Емшанов и Виктор Алферов, взорвали зал Голосова, 20 за 45 минут. Взорвали текстом, написанным Никитой под впечатлением от книги Феллоуза «4 тысячи дней в бангкокской тюрьме» и совпадением с ситуацией, в которую попал его, Никиты, брат за контрабанду наркотиков. Пьесу Никита в прошлом году принес своему сокурснику Виктору, на следующий день тот согласился ее поставить, площадку для репетиций им отдал Театр.doc, премьера проекта случилась четыре месяца назад.
– Нет у нас особого желания ставить классический репертуар, – говорит режиссер моноспектакля «Бамбукоповал». – С помощью него ты ничего не решаешь, ни в своей жизни, ни в жизни близких тебе людей. Что же касается этой пьесы, то ощущение, что чем-то она людям может помочь, нас до сих пор не покидает.
Переучить за неделю: актерский тренинг Ж. Мореля
Целая французская делегация – драматург Жиль Морель, критик Татьяна Могилевская, Лоранс Мендлен, директор фестиваля East-West (город Ди) и Анес Буасси, директор медиатеки города Ди, член административного совета фестиваля East-West – приехала в этом году в Тольятти не для массовки, а работать. Работать с местными актерами, отсматривать для французского театрального фестиваля пьесы Вадима Леванова, делиться опытом. Процессы прошли успешно: около десяти человек из разных театров разной направленности в течение десяти дней испытывали на себе все тяготы того, что братья Вачовски назвали бы «перезагрузкой». Шутка ли, отдаться новому методу, позабыв старые учебные истины Станиславского и местных театральных учителей? Сыграла свою положительную роль длительность тренинга – четыре часа в день полностью выключали ребят и девчат (прошу прощения, теперь учеников Жиля Мореля) из действительности и обыденности. Напомним, что суть метода Жиля заключалась в обучении смене ориентиров при произнесении актерами текстов: не от значения слова к смыслу пьесы, а от звучащего слова к смыслу, предполагая, что в самом слове уже есть значение, ему присущее… Последнее занятие впечатлило многих. Актеры и актрисы по указанию Мореля произносили врученный им текст в разных эмоциях и состояниях, манипулируя чувствами и зрительской реакцией, как марионетками. Текст же порождался не личностями актеров, а их индивидуальностями – в этом изюминка и была! Актрисы ТЮЗа, Наташа с Иоанной, признались нам, что впервые в жизни встретили «профессионала от театра», выразив горячее желание «работать с подобными людьми», но уже не здесь, а вне города. Однако Жиль так же не проводил время даром, побывав практически на всех постановках театра, ничего, правда, не понимая. Исправно спрашивая его каждый раз после очередного смотра, можно было понять, что Жиль предпочитает психологический театр. Театр искренний, живой и естественный. По его мнению, к таковым можно было смело отнести все левановские спектакли, а также московский «Бамбукоповал». Особо он выделил и читку пьесы Жан-Люка Лагарса девочками театра «Вариант», разыгранную как раз по его методике анти-Станиславского. Приятно и факт…
– Чем увлекает тебя российская драматургия?
Жиль Морель (актер, режиссер, театральный продюсер, Валанс, Франция): Во-первых, я очень интересуюсь вообще современной драматургией, то есть текстами, которые пишутся людьми, живущими одновременно со мной. И среди этих моих современников есть еще русские. Россия вообще – это страна, в которой литература занимает очень большое место, и где есть сильная традиция, и есть такая классика, которая остается очень важной для жизни, которая занимает много места в умах. Причем больше, чем во Франции ив Европе. Поэтому кажется, то, что делается и то, что будет делаться – будет иметь большую ценность, для этого есть предпосылка. Я это уже вижу.
Заканчиваем французскую тему. Спектакли Леванова, в частности, «Сто пудов любви» и «Раздватри»с юными актрисами – воспитанницами театра, чрезвычайно понравились француженкам, приехавшим, как уже было сказано, для участия в отборе пьес для фестиваля на родине. Есть все шансы того, что в следующем году девочки покажут свои «фирменные» пьесы уже французским зрителям. По крайней мере, времени подготовиться будет у них достаточно.
– Внимание к современной российской драматургии во Франции – это мода или искренний интерес?
Татьяна Могилевская (культуролог, театровед, продюсер, Валанс, Франция): Существовала база для создания искреннего интереса, которой мы воспользовались, поскольку феномен русской драматургии очень интересный. Имеется вообще очень большой теоретический интерес к русской культуре во всех ее проявлениях, особенно к Тольятти и – к Голосова, 20…
ПЦ №23 (236) 07.06.2003