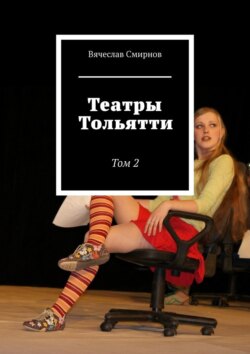Читать книгу Театры Тольятти. Том 2 - Вячеслав Смирнов - Страница 62
ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ШКОЛА ДРАМАТУРГИИ
Тонкая грань между эстетством и шоком
ОглавлениеБез преувеличения можно сказать, что «Майские чтения» в этом году – событие номер один в культурной жизни города. Во всяком случае, уж за первое-то полугодие можно смело поручиться. Продюсер «Майских чтений» Владимир Дороганов планировал расходы на ХV литературно-театральный фестиваль в пределах 110 тысяч. Сейчас он с грустью признает, что финансовая составляющая проекта вышла далеко за пределы намеченных сумм. Письма-призывы о поддержке мероприятия были заблаговременно разосланы едва ли не всем градообразующим предприятиям и крупным фирмам. Не помог никто. Посильную поддержку оказали лишь гостиничный комплекс «Спутник» и департамент культуры города. Основной груз затрат лег на фирму «Нова-Тольятти», которую возглавляет сам Дороганов. Кстати, организаторы фестиваля хотели бы отметить неоценимую помощь Сергея Белика, Андрея Потехина и Дениса Макарова – сотрудников дорогановской фирмы, которые каждый год работают на фестивале, решая массу оргвопросов, незаметных для зрителей, а зачастую и для участников программы.
Весь фестиваль в трех абзацах
В этом году на фестивале ввели несколько новшеств. Помимо обязательной театрально-драматургической программы, на зрительский суд было представлено несколько художественных акций (перформансов), художественных и фотовыставок, поэтических и музыкальных выступлений. Чтобы отсечь праздношатающуюся публику, в основном неформальную молодежь, которой негде выпить, дирекция фестиваля ввела фейс-контроль, а также платные билеты по 300 рублей. Правда, для студентов, театралов и педагогов на билеты были скидки от 50 до 70 процентов. На некоторые московские спектакли лица до 18 лет не допускались. Вход на тольяттинскую часть программы был свободным. Сделать даже беглый обзор фестиваля довольно сложно, многие акции, спектакли, читки и показы достойны, конечно, более широкого обсуждения. Увы, мы не специализированное театральное издание, а потому выхватим из обширной фестивальной программы наиболее заметные, событийные мероприятия. Шоком, гвоздем фестиваля стали, безусловно, знаменитые спектакли московского ТЕАТР.DOC «Большая жрачка» (авторский проект Александра Вартанова и Руслана Маликова) и «Война молдаван за картонную коробку» (руководитель постановки Михаил Угаров, либретто Александра Родионова, режиссеры Руслан Маликов, Татьяна Копылова, Сергей Пестриков). Кстати, один из дней фестиваля был выездным и проходил в Самаре. В областном центре «Коробка» провалилась начисто: в зал набились милые дамы лет пятидесяти, которые перешептывались, почему иногда не слышно актеров и где декорации. Вежливо посмотрев спектакль, по окончании зрители так же вежливо встали и молча ушли. Провалом фестиваля стала его поэтическая составляющая. Тольяттинских поэтов слушали тольяттинские поэты – пришли лишь участники программы. Московский поэтический авангард второго эшелона собрал целых пятнадцать (!) зрителей. Отдохновением души, главным «ха-ха» фестиваля стал спектакль по пьесе арт-директора «Майских чтений» Вадима Леванова «Изобретатель швейной машинки» (московский Центральный дом актера им. А. Яблочкиной, режиссер Игорь Корниенко). Изощренным эстетством фестиваля можно назвать недоковский проект ТЕАТР. DОС «Norway.Today» (автор Игорь Бауэршима, режиссер Георг Жено, Германия). Надежда фестиваля – франко-российский проект Кристофа Фетрие и Вадима Леванова с рабочим названием «Адью, Милена!» (актеры Милена Цховреба и Вартан Еницян). Наконец, главное занудство фестиваля – десять или одиннадцать представленных проектов Вадима Леванова, где он выступал либо в качестве автора, либо режиссера. Словом, получился небольшой перебор. В связи с совсем другими вещами Владимир Дороганов утверждал, что фестиваль можно было бы «вогнать» в рамки трех дней – сделать его плотнее и ударнее. И, конечно же, менее затратным. Собственно тольяттинская часть программы тоже не осталась без пристального внимания – это выступление «ударного» в прямом и переносном смысле коллектива «Барабаны мира» и концерт виртуального театра «Позорище» «На правах рекламы»; это арт-акции группы 3DK «Музей рая» (Татьяна Минсафина, Елена Шлиенкова, Татьяна Чирикова) и «Белый стол на зеленой траве» в рамках проекта «За культуру пития» (Тольяттинский краеведческий музей и театральный центр «Голосова, 20»); это читки и показы тольяттинских драматургов Киры Малининой, Юрия Клавдиева, Вячеслава и Михаила Дурненковых).
Панацеи не существует
Своими впечатлениями поделились некоторые гости и участники «Майских чтений».
Елена Строгалева, редактор «Петербургского театрального журнала»: Я не разделяю бытующего мнения, что современная драматургия является панацеей. Сейчас она направлена на создание некоего фона, группировки и привлечения людей, которым может быть традиционный театр и не был бы интересен в силу его некоторой заторможенности, но которые пришли, почуяв в этом именно какую-то перспективу. Эти люди смогут, вне зависимости от того, будут ли они заниматься современной драматургией, чем-то иным, принести в традиционный стационарный театр какие-то новые идеи. По крайней мере, они совершенно иначе ощущают жизнь, мир вокруг. И нынешняя реакция и всплеск современной драматургии – это, конечно, попытка связать день сегодняшний и искусство, потому что тот замкнутый мир, который существует в виде стационарного театра, он сейчас несколько искусствен, отсюда такой интерес и к кинематографу тех же самых драматургов, и собственно к созданию текстов, потому что на данный момент людям нужно осмыслить себя в этом мире, осмыслить свое «я», заявить о себе.
Корр.: Есть ли ярко выраженная специфика современного литовского театра и современного русского театра или все-таки их объединяют некие общие тенденции?
Рамуне Беляускайте, театровед (Вильнюс, Литва): О тенденциях современного литовского театра говорить пока очень трудно, потому что у нас нет такого большого количества современных драматургов, только четыре основных имени: они все очень различные, но это отличается от русских драматургов. В их пьесах другие проблемы, темы, сюжеты – в основном доминируют отношения между людьми, социальные проблемы и проблемы индивида уходят на второй план. В наших пьесах нет такой резкой современности, много исторического контекста.
Корр.: То есть для вас современный русский театр представляет интерес еще и в том, что там показан некий спектр проблем, который не освещает литовский театр?
Беляускайте: Который у нас не существует! Это интересно, потому что это нечто иное, чем западный театр. Мы ищем новый материал в России, мы думаем, что это перспективно, здесь можно найти интересные пьесы. Поэтому литовцы часто выезжают на фестивали искать новых авторов и потом привезти их в Литву. Но ставить такие пьесы большие театры не рискуют, потому что тематика для литовцев, она не так актуальна. Боятся: будет ли отклик, будет ли интерес к этим пьесам?
Корр.: Какова психологическая подоплека того, что человек считает, что традиции – это как бы хорошо, а все, что вне рамок традиций – это, может быть, нехорошо и даже вредно?
Алексей Слюсарчук, режиссер театра «Особняк» (Санкт-Петербург): Это вопрос столкновения поколений. Это касается не только театра, но и культуры вообще. Тот административный аппарат, который сейчас работает (и в Тольятти, наверное, и в Петербурге), сформировался во многом на внутреннем ощущении потери (разломы, перестройки, вот эти девяностые годы, какие-то катаклизмы экономического характера), – это сложно психологически, и тенденция держаться за что-то или иметь что-то – не тенденция поиска, не тенденция открытого движения куда-то, а видимость стабильности, она остается психологической тенденцией, и получается так, что она очевидна для поколения, которое сейчас так или иначе решает какие-то административные вопросы. В Европе, по моему опыту, очень просто: там все настолько уверены, что консервативное искусство незыблемо и традиционно, что любые поиски в области авангарда или в области современности, модерна приветствуются сразу, потому что появился кто-то, кто это делает, потому-то нет страха за то, что все опять может быть разрушено. Зрители должны иметь возможность видеть всю театральную палитру, так же как литературную. И не нужно этого бояться. Современная драматургия – это то, что окружает нас. Если кто-то хочет жить прошлым – пусть он живет прошлым, это, в принципе, его право. Если кто-то хочет держаться за стереотипы – пусть держится за стереотипы, это тоже его право. Но, я думаю, как раз для культурной политики в области администрирования очень важно понимать, насколько важны эти новые попытки создания современности. С другой стороны, я злюсь оттого, что они не понимают шанса, который им выпадает. У меня вызывает недоумение, что они не понимают, что ничего не сделали: если чуть-чуть вложиться в центр современной драматургии, можно получить огромный резонанс, огромную пользу. Вне зависимости от того, нравится это или не нравится, можно выстроить, как уже выстраивается, культурное событие российского, европейского масштаба в театре на Голосова, 20, из очень простого помещения на первом этаже, если использовать его сообразно менеджерским схемам, если бы был достаточный пиар. Ведь вопрос не вкуса, нравится или это не нравится департаменту культуры. Он же не театральный критик, это вообще не их профессия – понять, что здесь есть огромный потенциал – финансовый, организационный. Я был на фестивалях в Эдинбурге. В этом городе ничего нет, ну вообще ничего. Там люди никак не могут жить. А они придумали такую идею: у них есть ежегодный театральный фестиваль, и Эдинбург знают все из-за этого театрального фестиваля. Тогда работают гостиницы, работают рестораны, работают инфраструктуры всего обеспечения – город начинает существовать на такой простой ситуации. Пиар по телевидению первых российских каналов, конечно, может быть вполне, и об открытии фестиваля может сообщать не городской департамент культуры, а телеканал «Культура», это очень просто, только нужно достаточно внимания этому уделить, и дневник фестиваля, так же как дневник фестиваля «Золотая маска», идет по каналу «Культура» – также вот и фестиваль «Майские чтения» может идти по каналу «Культура» как событие. Вот об этом должен думать департамент культуры, вот это он должен понимать. А «нравится не нравится», «современный не современный» – в конце концов, пусть театральные критики рассудят, пусть приедут сюда, пригласят профессоров, которые разбираются лучше всего, выпустят бюллетень фестиваля, объяснят, почему это так, что в этом хорошего и почему это так важно. Мне кажется, что вот так нужно поступить, а для этого нужно просто помочь фестивалю обеспечить вот эту финансово-организационную ситуацию. Не нужно бояться новых технологий в сфере культуры. Топ-менежеры делают состояния за один год на одном фестивале.
Мода, которая скоро пройдет
Корр.: То, что происходит в нынешнем театре, происходит везде или каждый фестиваль все-таки имеет свою специфику?
Ксения Драгунская, драматург (Москва): Можно сказать, что фестиваль в Любимовке, который сейчас проходит в Москве, фестиваль «Новая драма» – это одно. А фестиваль в рязанском или в воронежском ТЮЗе – это, конечно, будет несколько другой фестиваль. Это зависит от проблематики, от того, что театр хочет получить. Например, когда какой-то областной ТЮЗ ставит фестиваль – он хочет получить, наверное, каких-то новых авторов, которые пишут для широкой общественности какие-то доступные тексты. Я считаю все-таки, что «Новая драма» – это фестиваль для очень узкого круга специалистов, это все исключительно в рамках Садового кольца. Конечно, у них большой промоушн, но широкому кругу российской театральной общественности это неинтересно, это не имеет никакого отношения к тому, чем живет провинциальный театр. Все-таки мне кажется, что вот эта DOCовская тенденция не может побеждать повсеместно. Хотя некоторые говорят, что эстетически побеждает тенденция табуированной лексики на сцене и так далее. Ну, где она побеждает? В ТЕАТР.DOC и местами на каких-то спектаклях «Новой драмы». Как узкое направление, как мода, которая скоро пройдет. Она не может победить повсеместно. Это просто исключено по объективным причинам.
Корр.: Вы давно в России с театральными проектами?
Кристоф Фетрие, режиссер (Париж, Франция): Как давно я занимаюсь театром в России – я не знаю. Может, десять лет. Я всегда занимаюсь международными проектами. Сейчас это связано с Россией, потому что я очень люблю работать в России, с русскими артистами. Но я работаю в Германии, во Франции, в Китае, я работаю фактически по всему миру. И эти международные проекты не просто международные для того, чтобы быть международными. Факт в том, что сейчас, мне кажется, в нашем обществе очень важно найти вариант для того, чтобы поговорить не через ружье, не через войну, а через искусство. И я так, как могу, пробую ломать границы, поэтому интересно работать с разными людьми, с разными артистами.
Корр.: Когда зритель увидит ваш новый проект в готовом виде?
Фетрие: Сейчас у нас с Вадимом Левановым пока нет общего материала, мы еще в поиске. Когда он появится – мы будем идти дальше. Идея проекта такова. Поскольку актриса владеет разными языками – грузинским, русским, немножко французским, я хочу сделать этот проект между тремя городами: Парижем, Москвой и Тбилиси.
Перед открытием фестиваля Владимир Дороганов высказался в том смысле, что, дескать, «…ребенок уже не в памперсах, но еще постоянно накладывает в штаны», – получилось этакое физиологическое определение невозможности полного совершенства. Несмотря на некоторые «но» и всяческие оговорки, фестиваль тем не менее состоялся. Кто-то из коллег-журналистов, ограничившись банальной пресс-конференцией, даже посетовал в сердцах: «Почему ты меня не предупредил, что все будет так круто?!»
ТО №105 (1010) 11.06.2004