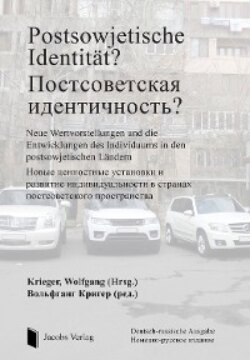Читать книгу Postsowjetische Identität? - Постсоветская идентичность? - Wolfgang Krieger - Страница 7
Оглавление"Постсоветская идентичность"
Введение в тему логики концепции идентичности
Вольфганг Кригер
Говорить о "постсоветской идентичности" предопределено. Как понятие "постсоветский", так и понятие "идентичность" содержат последствия, предполагающие четкие, единообразные и фиксированные характеристики. Концепция "постсоветской идентичности" предполагает наличие новой коллективной идентичности, общей для всех заинтересованных народов и этнических групп, основанной на общей судьбе прекращения советской империи. Термин "постсоветский" также постулирует уединение советской эпохи, советскую культуру, советское отношение к жизни и т.д., что, безусловно, было бы весьма поверхностным и не вызывало бы сомнений.
С другой стороны, можно с уверенностью сказать, что во всех заинтересованных странах эти изменения привели к утрате ориентации, кризису коллективного самосознания, кризису ценностей и жизненных планов, что обусловило необходимость поиска новых ответов на вопрос о значимой идентичности в изменившихся социальных, экономических и культурных условиях. Поскольку процесс так называемой "постсоветской трансформации" имеет не только экономические и политические измерения, но и измерение социального созидания смысла и осознания ценностей, с одной стороны, и индивидуальной переориентации на жизненные идеалы и планы – с другой. Оба тесно связаны друг с другом.
Требования к трансформации можно первоначально разделить на четыре основных изменения, выразившиеся в создании нового государства на месте советского супергосударства в ситуации почти атомной нестабильности, в замене плановой экономики либеральной капиталистической рыночной экономикой, в хотя бы формальной замене авторитарной однопартийной системы демократической многопартийной системой и, наконец, в превращении бесклассового коммунистического общества в стратифицированное капиталисти-ческое общество. Эти изменения связаны с другими факторами, такими как возникновение новых рисков для безопасности жизни, конкуренции и соперничества, от предоставления государственных услуг до бесплатного пользования услугами, от превращения в авторитарного лидера до действий с участием населения и т.д. Все эти изменения не только имеют социальное значение, но и ставят новые индивидуальные требования к конституции личности, которая должна успешно справиться с этими новыми условиями и которая теперь призвана поддерживать свой собственный прогресс и социальный прогресс другими способами.
Исторический трюизм заключается в том, что культурные ориентации, а также социальные институты или даже просто материальная среда обитания людей не могут быть полностью растворены отныне, а не через несколько лет, а скорее через десятилетия, и заменены альтернативами. Все, что люди создают, основано на (дальнейшей) обработке того, что у них есть под рукой и что они уже знают. Никто не может просто снять свою историю, как пальто, и надеть новое пальто, но он может только восстановить и заменить мелкими шажками то, что больше не является "прочным". Даже в начале новой эпохи с неба ничего не падает, но все должно быть приобретено заново, за что нужно бороться, должно быть установлено и стабилизировано. И даже там, где возможно превратить предыдущее в свою противоположность, настоящее остает-ся ориентированным на предопределенное направление контраста, которое, в свою очередь, обязано своим существованием предыдущему и тем, что считалось нуждающимся в изменении. Нет ничего нового, чья сущность и причина, в конце концов, не старая.
1. Постсоветское как носитель идентичности
Вопрос о том, целесообразно ли использовать термин "постсоветский" вообще, неоднократно ставился под сомнение с начала тысячелетий. Например, термин "постсоветское пространство" долгое время подвергался критике, поскольку геополитическое единство бывшего советского пространства уже не может быть определено в странах, объединенных таким образом.28 Правда, здесь постулируется, что советское строительство единства в нынешней ситуации в этих странах все равно продолжится "постсоветским", пусть и в измененном виде. Это, безусловно, уже не так, учитывая столь разные события в странах. Но термин "постсоветский", безусловно, все еще имеет смысл, если он основан не на настоящем, а на прошлом и используется для обозначения тех стран и культур, которые когда-то принадлежали Советскому Союзу, даже если сегодня можно говорить о "постсоветском" только во множественном числе. Все обозначенные таким образом страны, тем не менее, имеют объединяющую историю "общей судьбы" и по сей день вынуждены справляться с "наследием" Советского Союза на самых разных уровнях.
Итак, когда мы говорим о "постсоветской эпохе", мы не претендуем ни на что большее, чем на то, что закончилась предыдущая эпоха – с определенными структурами и особенностями, и – как иначе – новая эпоха строится на ее развалинах. Но такой образ завораживает: с сегодняшней точки зрения, остатки советской эпохи могут показаться многим не более чем руинами, как колонны, храмы и саркофаги Романского форума, которые туристы, осознавая свою историческую отчужденность, рассматривают как реликвии прошлой эпохи. Ситуация с руинами советской эпохи сильно отличается: в постсоветских странах люди живут в советских руинах, и степень исторической дистанции, вероятно, достаточно низкая, в соответствии с прагматическими ограничениями.29 Наследие советской эпохи "в употреблении", в самоочевидном и поэтому зачастую бесспорном использовании. Исследователям может быть легко описать характеристики прошедшей эпохи, потому что в течение десятилетий их можно было наблюдать, их структуры и особенности можно было воспринимать, понимать в терминах, анализировать и обсуждать в противоречивых выражениях30 – но то, что приходит после этого – это пустая доска, вакуум знаний и объяснений, понимания, знакомства и определенной оценки, и по-прежнему трудно обосновать, какой язык будет подходящим для описания нового и изменившегося.
Поиск чего-то идентичного с самим собой, идентичности, в такой фазе неопределенности, по сути, является парадоксом. Идентичное в смысле постоянного, постоянного, в лучшем случае само состояние неопределенности. Это становится заметным в повторяющихся смущениях, в пережитом противостоянии с непредсказуемым и в отсутствии надежных решений имеющихся проблем. Если, кроме того, будет найдено что-то, что зарекомен-довало себя как фиксированная структура, то это возможно только в контрастной ретроспективе, т.е. по прошествии определенного периода времени с момента окончания предыдущей эпохи и после внимательного наблюдения за процессами формирования новых структур. Само это наблюдение, возможно, также придется выучить заново, если оно не должно быть предвзятым по отношению к взглядам прошлого и не должно быть направлено исключительно на признание старого в новом. Поэтому новую эпоху также можно "увидеть" только тогда, когда ее видят новыми глазами.
Таким образом, задача ответа на исходный программный вопрос этой книги о существовании и характере "постсоветской идентичности" и культурно-ценностных ориентациях, на которых она базируется, может оказаться ошеломляющей с точки зрения актуальной культурно-исторической реальности. Следовательно можно работать над другой задачей, а именно документировать состояние социальной справки с другой задачей, нежели получение новой идентичности после окончания советской идентичности. Эта задача также предполагает наличие отправной точки, которая сначала должна быть конкретизирована, прежде чем можно будет обратиться к самой задаче. Предпосылкой является то, что можно вообще построить "советскую идентич-ность", способную вывести ее правдоподобность из наблюдения за социальными реалиями прошлого в советских государствах. Это происходит во многих местах этой книги, где новые явления представлены в отличие от прошлого, а поиск новых решений социальных проблем артикулируется в их противопоставлении старым модальностям. Даже если описание "советской идентичности" здесь не может быть систематизировано, во многих местах можно разглядеть, что было для нее составляющим и что было потеряно в процессе трансформации.31
2. Логика концепции идентичности
Говоря об идентичности во многих отношениях имеет предлоги, и, несомненно, самым важным предлогом является логика, без которой понятие идентичности в любом случае может не иметь смысла, а именно предлог того, что вещь или человек могут быть идентичны самим себе, без этого утверждения, имеющего лишь банальное содержание быть способным обозначить что-то дважды одним и тем же термином. В большинстве случаев идентичность с самим собой связана с временным аспектом: Идентичность утверждает стабильность характеристик с течением времени. Нам нравится объяснять это себе через эссенциализацию, через "жесткое ядро" эго, через "нашу природу", наш характер. "Когда люди говорят об идентичности, – пишет Сюни, – их язык почти всегда говорит о единстве и внутренней гармонии и имеет тенденцию натурализовать целостность". По умолчанию, это не означает более раннего понимания идентичности как стабильного ядра. Почти неизбежно, особенно когда человек находится в бессознательном сознании относительно своей идентичности, идентичность-разговоры имеют тенденцию приписывать поведение данным характеристикам в простом, неопосредованном переносе. Один так делает, потому что один так и есть".32
Говорить об идентичности логически имеет смысл только в том случае, если предполагается различие, в результате которого сравниваются два явления, которые необходимо наблюдать, и затем их можно распознать как одно и то же в определенном смысле. Шесть вариантов перечислены здесь: 33 Будь то разница во времени (что-то остается прежним или возвращается в состояние, в котором оно уже было), будь то разница в пространстве (что-то остается прежним, независимо от пространств и ситуаций, в которых оно появляется), будь то разница во внешнем виде на разных феноменальных уровнях, в которых содержится что-то общее, будь то разница сущностей, которые, тем не менее, сопоставимы общей историей, будь то различие между внешним видом вещи или человека и ее происхождением, эффективность которого считается неразрывной, составляя, таким образом, ее идентичность, или различие между двумя наблюдениями, которые заставляют нечто различающееся выглядеть одной и той же вещью, тем не менее, потому что существует общая характеристика.
Давайте проиллюстрируем эти шесть вариантов различий и понимания идентичности, которые должны быть им приписаны, примером.
1 Господин Иванов все тот же, холерик и вспыльчивый, что и в детстве (идентичность через временную преемственность).
2 Г-н Иванов одинаков, кричит ли он дома или на работе (идентичность через неизменность в пространстве).
3 Как в своих решениях, так и в вопросах можно видеть, что г-н Иванов всегда руководствуется принципом равенства (идентичность через высшую константу).
4 Г-н Иванов – российский футболист, играющий за московский "Спартак" на протяжении пятнадцати лет и всегда остающийся лояльным к клубу (идентичность через общую судьбу или интеграцию).
5 Несмотря на то, что господин Иванов пятнадцать лет играл за "Спартак", он остается украинцем по своей сути (идентичность по демаркации внутреннего существа).
6 Длинная и тонкая или короткая и толстая, если в верхней части есть отверстие, а в нижней части – ножка, и ее можно наполнить водой, то это ваза (идентичность по общим характеристикам).
Все шесть вариантов – а их может быть и больше – показывают, что атрибуция идентичности требует предварительного установления неидентичности, т.е. предполагает проведение различия. Короче говоря: без разницы нет личности.
Такая постановка вопроса о неидентичности является предпосылкой для сопоставления этих двух явлений. Они объединены в одну треть, которая без создания разницы еще не могла бы раскрыть эти два феномена. В нашем примере замечание г-на Иванова – это то третье, в котором два явления, такие как г-н Иванов сегодня и вчера, выходят на первый план в том смысле, что введение наблюдения временной разницы расщепляет его единство. Это замечание о временном различии в буквальном смысле слова является операцией по разделению этой третьей стороны на два противоположных явления, а именно: господина Иванова сегодня и господина Иванова вчера. Сопоставление создает основу для возможности сравнения, оно дает сравнение объектов дальнейшего наблюдения, которое в свою очередь теперь делает дальнейшие различия.
Это рассмотрение идентичности следует из логики дифференциации Джорджа Спенсера-Брауна в его "законах формы".34
Стоит также рассмотреть конструкцию "постсоветской идентичности" в том смысле, что она указывает на то, что каждая операция дифференциации и, следовательно, наблюдения также оставляет "незамеченное пространство", пространство незамеченного, т.е., наблюдая что-то конкретное, она точно исключает из наблюдения что-то другое. Каждому проводимому разграничению предшествует другое разграничение, в котором решается, что должно соблюдаться, а что нет. В этом отношении каждое различие является "предвзятым", "необязательно предвзятым" из-за неосознанной рутины проведения наблюдательных операций и необязательно отраженного желания наблюдать.
Этот аспект необходимо также учитывать при поиске параметров, связанных с идентичностью, в структурах личности, в социальной деятельности, в процессах социальной институционализации и в культурных формах выражения. Любой, кто ищет идентичность, уже приносит с собой фонд гипотез о факторах, которые, по его мнению, вероятно, необходимы для продолжения существования человека, общества и культуры, и которые, следовательно, всегда направляют их поиск определенными способами. Понятия, которым приписывается постулат идентичности (личность, общество, культура), сами по себе являются понятиями, составляющими эту предвзятость, поскольку они относятся к параметрам, которые остаются относительно постоянными, отличают системы от других систем и, таким образом, обязывают нас искать неизменную характеристику, которая делает различия. Поэтому "идентичность" уже имманентна в понятиях личности, общества, культуры и многих других понятиях, характеризующих стабильность и постоянство в многообразии изменяющихся явлений живых систем.
Поэтому использование термина "идентичность" в отношении объекта ссылки также является разнообразным. В принципе, можно различать идентичность индивида и идентичность коллективов (которая может быть основана на атрибуциях внутреннего или внешнего наблюдателя (наблюдателей)). Что касается концепции "коллективной идентичности", то необходимо провести дополнительное различие в отношении того, относятся ли восхождения к самому коллективу или к членству индивидуума в коллективе. В последнем случае человек может иметь столько коллективных идентичностей, сколько он является членом коллектива. Коллективная идентичность индивида вместе с индивидуальной идентичностью формируют его или ее "личную идентичность".35
Например, можно сказать, что коллективная идентичность существует в тех случаях, когда коллектив, например, члены той или иной этнической группы, как представляется, характеризуется особыми чертами. Затем описывается "коллективная идентичность" этого коллектива. Конечно же, эти характеристики тогда относятся и к каждому члену. Теперь "коллективная идентич-ность" является частью его "личной идентичности" и описывает членство в коллективе. Кроме того, "личностная идентичность" содержит также индивидуальную идентичность в смысле множества характеристик, которые в относительно уникальной комбинации описывают особую природу индивида, выходящую за рамки его коллективной идентичности36. Поскольку отдельные лица принадлежат к нескольким коллективам, они также имеют несколько коллективных идентичностей, которые они индивидуально взвешивают в своей "личной идентичности" и, возможно, пытаются сделать их совместимыми или полезными друг для друга.
Конструкции коллективной идентичности можно отличить путем дальнейшего систематического подхода к наиболее важным критериям принадлеж-ности. Сохст видит историческую модель развития различных форм коллективной идентичности, основанную на существующем в соответствующую эпоху образе человека и культурно-практичных атрибуциях социальных параметров принадлежности. Он считает, что временная ориентация коллектив-ной идентичности имеет решающее значение для типа признаков принадлежности. Он различает "архаичную протоидентичность", которая может быть найдена в возрасте до 40 лет. За тысячу лет до Христа, атрибуты которого были сделаны независимо от временных дифференциаций и ограничивались текущим членством в клане или семье, последующее разделение индивидуальной идентичности, как можно наблюдать в греческой античности в "изобретении личности", от "коллективно-анзестральной ориентированной идент-ичности", для которой характерна ориентация, связанная с происхождением и, таким образом, с прошлым (символизируемая, например, в поклонении предкам), затем "нынешняя коллективная и индивидуальная идентичность", начиная примерно с 1550 г., которая определяет принадлежность через черты, связанные с настоящим, такие как полезность для нынешней ситуации, вызванная, например, утилитаризмом рационализма Гоббса, и, наконец, "программно ориентированная перспективная коллективная и индивидуальная идентичность", черты принадлежности которой основаны на индивидуально желаемом участии в коллективной программе или программе работы, или индивидуальные цели государства, которые должны быть достигнуты в будущем.37
Эта типология или "логика развития" конструкций идентичности, возможно, также может быть использована в качестве аналитического инструмента для объяснения различий в идентичности между западными индивидуалистическими культурами и восточными коллективистскими культурами, посколь-ку она относится к характеристикам, которые, по крайней мере, имеют очень разный вес, если не фундаментально иной, для сегодняшних западноевропейских культур и постсоветских культур. Так, националистические и этнисти-ческие конструкции идентичности всегда в своей основе относятся к типу "коллективно-анзестрально-ориентированной идентичности",38в то время как конструкции идентичности, основанные на идее индивидуальной самореализации и образе жизни, служащем социальному прогрессу, относятся к типу "программно ориентированной на будущее идентичности". Однако следует предположить, что те типы, которые Sohst развил с претензией на ограниченность эпохи, можно встретить повсюду в смешанной форме в сегодняшних плюралистических обществах, и что это также представляет собой плюрализм существующих конструкций идентичности.
3. Феноменология личной идентичности
Использование понятия идентичности в отношении человека возникает на двух уровнях, с одной стороны, на феноменальном эмпирическом уровне, руководствуясь вопросом о том, с чем определенные люди отождествляют себя, что они понимают как свою личность, как свою идиосинкразию или даже как свою роль, какие характеристики они приписывают себе, какие интересы и какой идеал они черпают из себя; Во-вторых, на интерпретационном, пояснительном уровне, который составляет основу первой, руководствуясь вопросом о том, что стоит за этими идентичностями, что делает их ценными, что их оправдывает, какие ценности существуют за этими идентичностями, почему они вообще важны и какова общая картина человека, смысла жизни, а также общества и его культуры, которые в них содержатся.
Наблюдения на обоих уровнях также должны различаться в зависимости от того, кто является наблюдателем, сам субъект или внешний наблюдатель (которых, конечно, много). Субъект приписывает "идентичность" себе, например, в своих понятиях о себе, но "идентичность" приписывается ему и другими. В связи с этим может быть составлена следующая схема:
| Уровни | Самоконтроль | Внешний контроль |
| Феноменальный эмпирический | Социальная самооценка Идентификация с... Осознание роли Мы чувствуем Идеальная самооценка Уверенность в себе и самоуважение | Социальная идентичность / Колективная идентичность Принадлежащий... Роли приняты Статус и изображение общественное одобрение Распределение ориентаций |
| толковательный пояснительный | Самообслуживание Осознание ценности Образ человека смысл жизни | Представление интересов и ценностей Культурные знания/ Культурные горизонты смысла |
Различные гуманитарные дисциплины занимаются этими вопросами, как правило, на обоих уровнях одновременно, даже если они концентрируют свое внимание на двух уровнях с разным весом и интересом. Социология, культурология и этнология, как и психология и, в более скромной степени, полито-логия, 39в теории конструирования "идентичности". В общем смысле, эти вопросы обсуждаются также философией и всеми формами антропологии, которая, прежде всего, вносит общий вклад в толковательно-разъяснительный уровень, поскольку вопрос "кто есть человек" всегда включает в себя вопрос о потенциале личности "кто я". Что касается этой темы, то здесь будут выбраны
только две из этих дисциплинарных точек зрения, а именно: социологическая и психологическая.40
Социология. Социологов интересует феномен идентичности, прежде всего, объединяющий эффект идентификации конструкций. Первый постулат о том, что принадлежность к социальной группе, будь то нация, профессия, сцена или конкретная семья, придает ее членам общую специфику и, таким образом, может стать символом их социальной или коллективной идентичности.41 Во-вторых, социология, здесь часто в сочетании с психологией, исследует вопрос о том, какие социализирующие воздействия социальных когорт, социальных слоев, субкультур и субкультур влияют на формирование субъективных, социально-ориентированных установок и позиций и формируются через иденти-фикацию. В-третьих, социология выстраивает диагнозы времени, позволяющие предположить эпохальную идентичность членов общества в той или иной культуре.42
Поэтому термин "идентичность" появляется в связи с многочисленными обозначениями, такими как "национальная идентичность", "этническая идентичность", "коллективная идентичность", но также и более конкретно, например, в связи с "идентичностью учителя", но также и с "гетеросексуальной идентичностью", "авангардной идентичностью", "моральной идентич-ностью", а также с "постмодернистской идентичностью" или "традиционалистской идентичностью" и многим другим. Термин "постсоветская идентич-ность", используемый здесь, также использует ярлык, а именно характеристику "постсоветской", которая, очевидно, имеет объясняющее качество для специфики определенной наблюдаемой идентичности. По-видимому, существуют три категории, в частности, по которым различаются идентичности или которые считаются достаточно значимыми для того, чтобы люди воспринимали себя как идентичные им самим.
Членство в группе. В этом смысле Джордж Герберт Мид, например, понимает "социальную идентичность" как конгломерат социальных, т.е. ролевых суб-идентификаций, которые берет на себя индивидуум. Он противопоставляет это "личностной идентичности" как уникальному созвездию индивидуальных особенностей человека и биографически уникальному синтезу ролевых механизмов и самосознаний личности.43
Фундаментальные ориентации, убеждения и взгляды. Биологические и психологические характеристики, которые во многом являются непрерывными, с которыми индивидуум идентифицируется и которые во многом становятся актуальными для его собственного образа жизни, указывают, с одной стороны, соответствующему субъекту, а с другой стороны, его внешним наблюдателям на то, "за что кто-то выступает".
Эпохальная однородность. Социология культуры, в частности, неоднократно ставит диагнозы времени, включающие конструирование социальной идентичности высокой степени обобщения. Примерами в Германии являются диагнозы "общества риска" Ульриха Бека (1986), или "общества опыта" Герхарда Шульце (1992), или даже "ускоренного общества" после Фукса, Ивера и Микали (2018), которое порождает "обремененный налогом субъект". 44 Придется ли рассматривать понятие "постсоветской идентичности", если оно вообще имеет смысл, для обозначения эпохально однородной идентичности.
Психология. Прежде всего, подходы в психологии личности, психологии развития и социальной психологии рассматривали понятие идентичности, с одной стороны, при разработке конструкции "эго-идентичности" как суммы Я-вкладов и Я-идентификаций личности, с другой стороны, в отношении психологических аспектов развития и обучения при принятии идентификаций и формировании Я-концепций. Таким образом, с одной стороны, психологический взгляд конкретизирует феномены сознания самоидентификации, с другой стороны, условия развития этого сознания в социализации и воспитании молодежи.
Психологическая перспектива фокусируется, прежде всего, на вопросах о том, как люди приписывают себе "идентичность" и что это значит для их самосознания, как в развитии личности 45возникают понятия о себе и идеальные концепции, и какие биографические и социальные факторы имеют решающее значение для выбора предложений по идентичности. Таким образом, "идентичность" понимается, прежде всего, как результат самоощущения личности, основанного на определенных измерениях саморефлексии. Для самоидентификации необходимо, чтобы человеку удавалось находить относительно постоянные представления о себе и относительно постоянную идентичность в этих измерениях. В этом смысле психолог Илларион Г. Петцольд разработал пять так называемых "столпов идентичности", на которых атрибуция людей основывается на том, что они могут видеть себя уникальной и стабильной личностью46. К этим пяти столпам относятся опыт собственной физичности и потребности, социальная сеть или социальные ориентиры (социальная принадлежность), работа и производительность (отождествление с собственной деятельностью), материальная обеспеченность (материальные ресурсы и знакомое экологическое пространство), а также ценности и нормы (ценностные ориентиры и смысл жизни). С одной стороны, пять столпов обозначают области, в которых человек находит существенные ориентиры для самоиденти-фикации; с другой стороны, они обозначают также области социализации, которые являются роковыми для развития идентичности, в которых зарезервированы конкретные предложения идентичности, т.е. потенциал идентифи-кации с чем-то.
Эрик Х. Эриксон использовал понятие эго-идентичности для описания биографической уникальности личности, которую он понимал, прежде всего, как результат преодоления кризисов всеобщего развития, но которая также во многом зависит от того, в какой степени другие распознают самосознание человека.47 В этом отношении развитие и доказательство идентичности также является социально опосредованным аспектом данной концепции. Эриксон видел прежде всего юношескую фазу как решающий этап в поиске идентичности, в котором формируются относительно устойчивые позиции эго-идентичности48. В то же время предположение об однородной, непрерывной эгоидентичности подверглось широкой критике в психологии и получило признание, что в условиях множественности и противоречивости постмодернизма единые критерии формирования самосознания и собственной репрезентации идентичности уже не могут быть гарантированы, а индивиды реагируют на различные социальные и культурные требования ситуативными идентичностями. Для этого не существует ни традиционных, ни консенсуальных концепций решения. Скорее, они развивают свою индивидуальность в независимой "работе над идентичностью", в которой они пытаются уравновесить свои суб-идентичности, которые до сих пор гарантируют им минимум самоконтроля и личностного стиля.
4. Концепция идентичности в изменении
С 1990-х годов возникла концепция "patchwork идентичности"49, которая противоречила традиционному пониманию идентичности как постоянного остающегося верным себе и, следовательно, предсказуемого для других, и теперь представляла индивида как хамелеона, который приспосабливается к изменяющимся требованиям социальной среды и, таким образом, ставит себя в стратегически выгодное положение, максимально приближенное к ожиданиям и критериям успеха других людей.
Эта концепция, построенная, прежде всего, Хайнером Кеппом, имела – вероятно, не в последнюю очередь, из-за своего шокирующего противоречия по сравнению с "современной"50 концепцией самоидентичного субъекта – значительный эффект в экспертной дискуссии в области социологии молодежи. В то же время, эта социально-психологически выведенная конструкция была хорошо связана с теоретико-идентификационными проектами символического взаимодействия Джорджа Герберта Мида и Эрвинга Гоффмана и их дальнейшим развитием Лотаром Краппманом в Германии. Прагматический экспери-ментализм социального действия, который уже вывел на первый план Уильяма Джеймса и Джорджа Герберта Мида, теперь, казалось бы, полностью восторжествовал над добродетелью индивидуальной силы характера; саморепрезентация индивидуумов, по-видимому, полностью утратила претензию на максимально возможное выражение индивидуальных ориентаций и установок и стала стратегическим маневром, даже обманчивым маневром, в удовлетворении ожиданий других людей. Кепп назвал это "управление впечатлениями". То, что традиционно критиковалось как "слабость характера", сейчас, казалось бы, является успешной концепцией "маркетинга идентичности" на рынке механизмов социального признания. Этот взгляд на идентичность становится сегодня парадигмой в "медийных идентичностях" молодых людей в социальных сетях. Саморепрезентация в различных ролях и нарядах, ситуации и отношения, приправленные квантом оригинальности и творчества, символические адаптации из мира звезд, реальные и виртуальные герои, возможно, в то же время вновь подвергаемые сомнению самоиронией, характеризуют привычку, особенно у молодых людей. Очевидно, что этот обычай реализует программу постмодернизма в том смысле, что заимствованная символика едва ли когда-либо заимствовалась из фиксированного репертуара, но может цитироваться из символического фонда практически всех культур и эпох, а также в том смысле, что идентификация, принятая в автопортале, не имеет реальной приверженности и преемственности. Короче говоря: привычка такого самопредставления представляет себя как игру и, как и любая игра, играет с соблазном быть принятым всерьез.
Рассмотрим вкратце социологическую теорию идентичности Эрвинга Гоффмана (1973) и Лотара Краппманна (1988), которая сделала возможной такую динамичную концепцию идентичности.
Лотар Краппманн, основываясь на концепции идентичности Мида, выделил четыре основные квалификации личности, необходимые для соответствующего ролевого действия, а именно: 1) способность брать на себя роли и сопереживать самооценке других обладателей ролей как носителей намерений, образа мышления, интересов и эмоций; 2) способность дистанцироваться от роли, т.е. к рефлексивному подходу к ролевым ожиданиям в соответствии с собственными потребностями и представлениями о себе, 3) терпимость к двусмысленности как к способности воспринимать ожидания, противоречащие собственному ролевому пониманию, которое возможно в результате культурных или социальных различий, и учитывать их в своих действиях, и 4) способность представлять идентичность, т.е. выражать собственное понимание личной идентичности.
Именно последнее, репрезентация идентичности, которая – согласно моему тезису – уже происходит среди подростков и самой молодежи в "культурно санкционированном пространстве", особенно в новых социальных сетях, т.е. зачастую посредством использования клише, которые не допускают удивительно оригинальной индивидуальности, отклоняющейся от того, что ожидается, а присваиваются однородным репертуаром идентичности, из которого молодые люди должны черпать символы своей идентичности, если они хотят, чтобы их узнали. Я считаю, что здесь есть разница, прежде всего, между Востоком и Западом, а также между поколениями на Востоке и Западе.
Именно Краппманн в очередной раз динамизировал понятие "идентичность", предполагая, что "представленная идентичность" не имеет универ-сальной, постоянной формы, а видоизменяется в зависимости от партнеров по взаимодействию.51 Таким образом, возможно, что люди представляют свою идентичность в одних ситуациях совершенно иначе, чем в других, например, на работе совершенно иначе, чем в кругу друзей, в новых социальных сетях совершенно иначе, чем в семье. Именно это наблюдение затрудняет разговор об общей "постсоветской идентичности", поскольку во всех ее проявлениях важно учитывать аудиторию, перед которой представлена такая идентичность. Тем не менее, за разнообразием феноменальной постсоветской идентичности, возможно, стоит обобщение интерпретируемой постсоветской идентичности.
Следует также отметить, что "идентичность" всегда является также "согласованной идентичностью", т.е. основанной на процессе адаптации при использовании определенных символов в определенных контекстах. "Символическая идентичность" должна быть понята другими, она должна быть основана, как бы, на общем языке, который а) признан партнерами по коммуникации как язык саморепрезентации и б) чьи символы могут быть подробно поняты, приписаны определенным контекстам и коннотациям. Однако она также зависит от стратегических условий для достижения успеха. Это символическое предложение для партнеров по коммуникации для достижения их собственных целей, особенно для того, чтобы быть отнесенными к социальным группам и статусным клише и получить признание, возможно, даже власть и влияние. В этом отношении процесс переговоров о самобытности соответствует произволу коллективной "культуры симпатии и признания", на которую индивидуум не может влиять. С другой стороны, представление личности как личности отражает именно по этой причине коллективную культуру, ее клише и ценностные ориентации, в которых заложено самопред-ставление личности. В этом отношении в определенной степени существует определяющая связь между индивидуальной саморепрезентацией и "культурой идентичности" общества, которая, с одной стороны, позволяет реконстру-ировать "коллективную идентичность" в качестве культурного содержания даже в условиях постмодернизма, а с другой стороны, позволяет разработать культурные критерии, на основе которых можно предположить, что в индивидуальной саморепрезентации будут выработаны понимание и принятие.
5. "Постсоветская идентичность" как идеальный тип в смысле Вебера
Понятие "идентичность" претендует на себя как на логику обобщения, и все, что говорится об идентичности, закрепляется, так сказать, за неизменным, за вездесущим и за "твердым ядром" насыщенной событиями жизни просто тем, что ей приписывается характерная черта быть похожим на себя. В этом отношении понятие "идентичность" предопределено совершенно иначе, чем понятие "постсоветское", поскольку оно должно быть проверено не сомнительностью исторического анализа, а адекватностью самого обобщающего ут-верждения.
В то же время использование термина "постсоветская идентичность" имеет смысл, если знать о конструктивном качестве термина и не понимать "постсоветскую идентичность" как термин для правильного описания всей социальной реальности, а использовать его в смысле Макса Вебера как идеал-типичный термин52, посредством которого существенные, обычно новые черты социальной реальности – возможно, с преувеличенной, даже утопической лаконичностью – подчеркиваются и внедряются в упорядочивающую систему. Идеальный тип – это, как говорит Вебер, "ментальная конструкция", а не эмпирическая, существующая форма, и скорее продукт наблюдения, который во что бы то ни стало односторонне преувеличен, что подчеркивает то, что связно в путанице неуправляемого концерта феноменов. Идеальный тип стоит в селективном отношении к реальности, он вырезает то, что может быть собрано вместе, чтобы сформировать единство под предпосылкой ранее предполагаемого значения.
Это, с одной стороны, инструмент, средство анализа социальной реальности, конкретный взгляд на данную ситуацию, так сказать, позволяющий обнаружить особенности, которые не были бы заметны без него, а с другой стороны, трендовая отправная точка для гипотез, которые могут лечь в основу концепций исследований и сравнительных культурных наблюдений.53 Идеальный тип является инструментом сравнения; его можно сравнительно противопоставить эмпирической реальности, чтобы выделить отдельные явления в результате их сходства с законом и тем самым квалифицировать их для подтверждения моментов идеально-типичного построения. В этом смысле мы понимаем построение "постсоветской идентичности" как идеал-типичное понятие,
Идеальный тип "постсоветской идентичности" – это, с одной стороны, та фольга, которая применяется к наблюдаемой реальности постсоветской реальности для того, чтобы обнаружить то, что может быть собрано воедино, чтобы сформировать когерентный и, таким образом, богатый фоном тип, но она также сама подвержена пересмотру через практику сравнения, поскольку то, что выявляется через ее применение, может также указывать на нечто совершенно отличное от того, что предполагалось ранее. В этом отношении идеальный тип подчиняется механизму герменевтической самокоррекции; изучение сходства может выявить и то, что вообще не соответствует критерию подобия, но "бросается в глаза" исследователю по другим причинам и, возможно, заставляет его обогащать или корректировать идеальный тип чем-то новым. Поэтому идеальный тип следует понимать не как исторически-независимый инструмент анализа, а скорее как растущую конструкцию в противостоянии с анализируемой реальностью.
Идеальный тип позволяет найти осмысленную согласованность (в смысле концепции рациональности Вебера) социальных явлений, заранее предполагая и формируя соответственно, что социальные явления влияют друг на друга таким образом, что такая согласованность развивается с течением времени. Они подчиняются рациональности взаимной совместимости, которая обусловлена ограничениями социальной самоорганизации.54 Мы также посту-лируем это, когда используем концепцию "постсоветской идентичности" в качестве идеал-типичного инструмента для анализов в этой книге.
Разработка такой согласованности требует времени, так же как и любой процесс самоорганизации требует времени для получения функционирующего структурного результата. Учитывая возможность создания социокультурных формаций в условиях новой реальности в постсоветских обществах, это время включает в себя три десятилетия с момента распада Советского Союза, которые могут быть социально восприняты как "успешные". Поэтому можно предположить, что при преодолении кризисов и компенсации потерь в социальной жизни и культурных достижениях появляются новые творения смысла и порядка, которые, по крайней мере, можно воспринимать.
Конечно, понятие "постсоветская реальность" всегда остается "запоминающимся" в том смысле, что оно приравнивается к эпохальной фактической реальности постсоветских государств сегодня и при этом претендует на характеристику "реального типа" возможной социальной реальности. Кроме того, риэлто-типичные и идеал-типичные области применения этого термина часто остаются запутанными или помещаются в одну без систематической последовательной демаркации. В такой практике характеристики "взгляда", так сказать, чередуются с характеристиками наблюдаемой реальности, эвристика путается с самими аналитическими результатами, идеал-типичный термин онтологизируется. Однако научное усердие должно быть направлено на то, чтобы в описательных, упорядочительных и аналитических операциях, а также в обязательном характере всех его высказываний о реальности соблюдать границы идеально-типичной концепции и оставаться в курсе релятивизи-рующей конструктивности ее концептуальных инструментов. Это задача постоянного вспоминания отправной точки идеально-типичного "творения", в изобретении которого еще отчетливо ощущался собственный вклад открытия, а ограничение собственного взгляда при "внимательном рассмотрении" типичного не представляло труда для размышления.
Поэтому, читая эту книгу, читателю, несомненно, будет полезно рассмотреть описательные и пояснительные высказывания о постсоветской идентич-ности с точки зрения их идеально-типичных предположений и выявить, насколько это возможно, неявные типологизирующие сетки, которыми руководствовались ученые. Он/она обнаружит, что различные материалы, представленные в этой книге, никоим образом не применяют одну и ту же модель идеального типа или одну и ту же типологию, но что одно из существенных достижений научной продуктивности заключается именно в том, чтобы породить новую идеально-типичную семантику, следующую за уже существующими и выставляющую их на обсуждение. В этом смысле мы желаем критическому читателю увлекательного и постоянно захватывающего чтения.
Список литературы
Чакхарат, Прадип/Вайдеман, Дорис (Eds.) (2018): Kulturpsychologische Gegenwarts-diagnose: Bestandsaufnahmen zu Wissenschaft und Gesellschaft. Билефельд: транскрипт.
Дикманн, Иоганн (1967): Рациональность идеального типа Вебера. Социальный мир 18-й год, H. 1 (1967), стр. 29-40.
Эриксон, Эрик Х. (1974): Идентичность и жизненный цикл. Три эссе. Второе издание. Франкфурт-на-Майне: Суркамп.
Филипп, Сигрун-Хайде (ред.) (1979): Исследования самосознания. Проблемы, результаты, перспективы. Клетт-Котта.
Хальбах У. (2002): "Больше не постсоветское" пространство? Россия в восприятии государств Кавказа и Центральной Азии до и после 11 сентября (SWP исследование, с. 24). Берлин: Stiftung Wissenschaft und Politik. SWP Германский институт международных отношений и безопасности. Интернет: https://mbm-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-261717
Lahusen, Thomas (2008): Decay or Indurance: The Ruins of Socialism (Распад или Страхование: Руины социализма). В: Лахусен, Томас/Соломон, Питер Х. (ред.): Что теперь советское? Личности, наследие, воспоминания. Берлин: Литва.
Мид, Джордж Герберт (1980): Социальная идентичность. (1913) В. Собрание сочинений, том 1. ред. Ханса Йоаса. Франкфурт-на-Майне: Суркамп, С. 241-249.
Мид, Джордж Герберт (1973): Разум, идентичность и общество. (1934) Франкфурт-на-Майне: Суркамп.
Мехнерт, Клаус (1958): Советский человек. Попытка портрета после двенадцати поездок в Советский Союз 1929-1957 годов. 11-е изд. Штутгарт: Дойче Верлагс-Анштальт.
Мюллер, Бернадетта (2009): Идентичность. Социологический анализ социальной конституции личности. Диссертационный университет Граца, Австрия.
Мюллер, Бернадетта (2011): Эмпирическое исследование идентичности. Личностные, социальные и культурные аспекты самолокализации. Висбаден, Германия: Спрингер В.С.
Нойбауэр, Вальтер Ф. (1976): Самосознание и идентичность в детстве и юности. Мюнхен/Базель: Райнхардт.
Кепп, Хайнер; Хёфер, Рената (ред.) 1997: Работа над идентичностью сегодня. Классические и современные перспективы исследования идентичности. Франкфурт-на-Майне: Суркамп.
Кепп, Хайнер; среди прочих 2002: Конструкции идентичности. Лоскутное одеяло идентичности в позднем модернизме. 2-е изд. Рейнбек: Ровохольт.
Краппманн, Лотар (1988): Социологические измерения идентичности. Штутгарт.
Крупкин, П. (2014): Политическая коллективная идентичность на постсоветском пространстве Российской Федерации. PolitBook 2014 (1), S. 61-86. Интернет: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-kollektivnye-identichnosti-v-postsovetskoy-rossiyskoy-federatsii/viewer.
Перри, Джон (2002): Идентичность, личность и Я. Индианаполис/Кембридж: Хакетт.
Пришивание, Манфред (2018): временная диагностика. Методы, модели, мотивы. Белц Ювента.
Петцольдб, Х.Г. (1984) Предварительные соображения и концепции для интегративной теории личности. Интеграл. 10, стр. 73-115.
Шмид, Михаэль (1994): Идеализация и идеальный тип. О логике формирования типа в Max Weber. В: Вагнер, Г./Ципприан, Х. (ред.): Теория науки Макса Вебера. Интерпретация и критика. Франкфурт: Суркамп, С. 415-444.
Симель, Георг (1904): Кант и индивидуализм. In: Simmel, Georg: Essays and Treatises 1901-1908, том I. (Георг Зиммель. Гезамтаусгабе, том 7) Франкфурт-на-Майне: Suhrkamp 1995, стр. 273-282.
Спенсер-Браун, Джордж (2008): Формовые законы. 1994 г. Портленд ИЛИ: Компания Коньяйзер. Немецкое издание: Законы формы. Лейпциг: Богмайер.
Сохст, Вольфганг (2015): Открытие индивидуальности. Краткая история человеческой личности. Лекция от 26.01.2015. Интернет:
http://www.momo-berlin.de/files/momo_daten/dokumente/Sohst_MoMo-Vortrag_Janu ar2015. pdf.
Штраус, Ансельм (1968): Зеркала и маски. Поиск личности. Франкфурт А.М.: Суркамп.
Свинберн, Ричард (1984): Личная идентичность: теория дуализма. В: Сапожник, Сидней/Свинберн, Ричард: Личная идентичность. Бэзил Блэквелл, стр. 1-66.
Солнечный, Ричард Григор (1999): Предварительная стабильность. Политика идентичности в постсоветской Евразии. Международная безопасность, том 24, № 3 (зима 1999/2000), стр. 139-178.
Вебер, Макс (1995): Объективность социологических и социально-политических знаний. Шуттервальд: Wissenschaftlicher Verlag, 1995 (Оригинал: J.C.B. Mohr, Tübingen 1904).