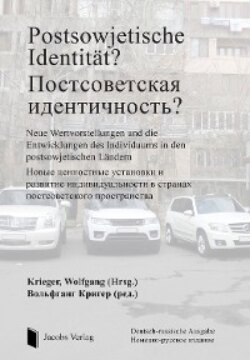Читать книгу Postsowjetische Identität? - Постсоветская идентичность? - Wolfgang Krieger - Страница 9
ОглавлениеПостсоветская идентичность
в призме проблемы свободы
Артур Ервандович Мкртичян
Прошлое и будущее: О необходимости синтеза
От того, как протекает интеграция постсоветских государств в мировое общество, зависит во многом общее содержание мировых исторических процессов современности. Следовательно, проблемы этой интеграции не являются сугубо частным делом каждого нового государства, и их решение должно исходить из принятых мировым сообществом общечеловеческих ценностей. Установление в мире глобальной кооперации, при которой успех стратегий автономных деятелей все в возрастающей мере зависит от успеха многих других деятелей является прямым следствием становления единой мировой социоэкономической культуры и предполагает координацию пространственно различных, но одновременных глобальных событий. Отныне складывается не локализированная в пространстве, но синхронизированная во времени глобальная культура, в рамках которой нет больше места таким понятиям как центр и периферия и все события, независимо от того, где они происходят, становятся равнозначимыми. Каждый входит в эту культуру со своим прошлым, но будущее у всех общее.
Благодаря совместному влиянию прошлого и будущего каждый одновременно и уникален, и универсален, что в свою очередь обусловливает и возможность вхождения людей в новую глобальную культуру, и сохранение их прежней культурной самобытности. На этой основе можно избегнуть возникающие на пути становления мирового общества опасности тоталитаризма, такие как рост фундаментализма, возникновение которого во многом обусловлено чрезмерным культивированием прошлого и недоверием в отношении общего будущего. При этом, конечно, важную роль играют приведшие к перемене ценностей неудачные попытки развивающихся стран достичь западного уровня экономического развития. В результате, вместо того чтобы искать новые ценности в совместном будущем мирового общества, некоторые стали искать его в собственном прошлом, то есть они не смогли решить проблему творческого синтеза своего частного прошлого и общего будущего. Само собой разумеется, что неопределенность этого будущего а зачастую и настоящего, его бесцельность, сильно препятствуют подобному синтезу. И тут надо признать, что подобная неопределенность вовсю проявляет себя также и на всем постсоветском пространстве. Поэтому опыт становления в Армении демократического общества необходимо подвергнуть научному анализу, результаты которого способствовали бы изучению закономерностей и механизмов демократической трансформации небольших посттоталитарных стран и позволили бы разработать для них практические рекомендации по управлению тенденциями трансформационных процессов.
"Десоветизация" не есть обязательно европеизация
Советское общество было устойчивым, так как при тоталитарных общественных порядках человеческие потребности обеспечивались относительно просто, ибо индивидуальная целеустремленность подчинялась целому. Она ограничивалась всеобщей целью построения коммунизма и принципом уравниловки, а соответствующим образом манипулированное коллективное сознание удерживало эти потребности на низком уровне, препятствуя развитию “индивидуализма”, освобождению “личности” и устанавливая строгие границы тому, чего законно мог добиваться индивид в данном общественном положении. Тем самым каждый черпал смысл своей жизни в чувстве сопричастности “великому” общему делу. Но постепенный развал тоталитарной системы вызвал “индивидуацию” и размыл моральные границы, установленные прежней этикой коллективизма и силой тоталитарного контроля. Старые традиции и коммуникационные стереотипы потеряли свою действенность и власть над постсоветской личностью.
Однако, для социального порядка важно соблюдение процедурных правил коммуникации, посредством которых и осуществляется урегулирование неурегулированного, управление социальным риском. Именно традированные процедуры (например: политические выборы) редуцируют комплексность и создают гарантию регулируемости системных отклонений и разного рода конфликтов, возникающих на основе действия в социуме положительных обратных связей. И прежде всего необходимо совмещение социально-культурных ожиданий путем идентификации личности через ее соотнесение к определенным ролям, программам и ценностям.
В Армении трудности переходного периода усуглубились чрезвычайно экстремальными условиями жизни, вызванными Карабахской войной и блокадой со стороны Азербайджана и Турции. Общество оказалось в состоянии „ни войны ни мира“.68 Такое положение превращает в миф официально провозглашенный курс на европеизацию страны, которая означает не только приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами, но и фактическую реализацию этих норм в общественной жизни. Задача – в переходе от сугубо мифологического к фактическому социальному порядку, построенному по европейским образцам и стандартам. И для решения этой задачи, прежде всего, необходимо изменить государственную политику в сфере школьного образования и государственное управление, являющееся конкретным механизмом реализации этой политики.
Подлинная европеизация означает формирование гражданской культуры, становление институтов демократии и правового государства. Европейская интеграция предполагает возможность формирования общей гражданской культуры как концепта институционных культур. Проблема решаема через школьное образование, ибо культура, в сущности, формируется в результате переноса знания (информации) и ценностей (общепринятых социальных ожиданий) от поколения к поколению посредством обучения и воспитания. В современных условиях становление культурного единства в значительной мере является следствием гомогенизирующего действия единой школьной системы с соответствующей логикой формирования идентичности.
Действительно, упорядочивание и культурная направленность процессов идентификации реализуется во многом благодаря школьному обучению, обеспечивающему типизацию, массовую унификацию и широкое распространение культурно-образовательных стандартов. Поэтому именно в системе нашего школьного образования необходима коренная структурная перестройка направленности воспитательной работы с тем, чтобы способствовать становлению новой идентичности, адекватной условиям постсоветской реальности. Этому становлению, среди прочих факторов, зачастую препятствует и авторитарная по своей сути система школьного образования, попытки „десоветизации“ которой осуществляются в направлении ее этнизации, а не воспитания у подрастающего поколения необходимой в условиях государственной независимости активной гражданской позиции.69
Всеобщий пессимизм как путь к "авторитарной демократии"
Изучение происходящих в Армении процессов выявляет ряд проблем, свойственных всем постсоветским обществам, а значит, разработка механизмов решения этих проблем имеет всеобщий интерес.
Уже первоначальное рассмотрение проблем переходного периода позволяет свести их к трем основным типам: проблемы экономического плана, проблемы институционализации и культурно-психологические проблемы. Многие исследователи отводят экономическим проблемам первостепенное значение, однако на наш взгляд, именно последний тип проблем во многом обусловливает первые два типа. И недооценка этого привела во многих постсоциалистических странах к описанной румынским философом Андреем Маргой ситуации, когда “экономика увязла в стагнации, публичное управление покалечено, политическая жизнь полностью запутана, а от культуры кроме призыва к свободе ничего другого не ожидалось“.70 Поэтому в фокусе нашего внимания оказывается философский анализ проблем культурно-психологической трансформации постсоветской идентичности.
Утверждение демократических порядков на постсоветском пространстве неразрывно связано с формированием у людей демократического склада и образа мысли. Трансформирующееся общественное сознание характеризуется столкновением старых стереотипов и инновационных идей, консервативных идеологий и беспочвенных утопий, оно нестабильно и легко впадает в крайности массовой эйфории и всеобщего отчаяния. В таких условиях ценностная система личности становится противоречивой, и эта противоречивость неизбежно проявляется в его взглядах и поведении. Проведенные в Армении социологические опросы также свидетельствуют о наличии в постсоветском армянском обществе серьезных проблем социально-психологического характера.71 В первую очередь надо констатировать, что ожидания большинства опрошенных респондентов в отношении будущего во многом являются пессимистичными. И причины этого пессимизма следует искать в жизненных условиях людей.
Всеобщий пессимизм как социальное явление обусловливается определенными обстоятельствами общественной жизни, которые, конечно же, можно изменить. Еще в начале прошлого века армянский социолог, выпускник Берлинского университета Ерванд Франгян проанализировал эти причины и выявил их преходящий характер. Как только индивидуальный пессимизм оказывается в сопутствующих его развитию социально-экономических и политических условиях, он тут же проявляется и в сфере общественной психологии. Франгян писал: “В истории, в жизни народов есть эпохи, когда господствующие социально-политические и морально-экономические условия являются плодородной почвой для проявления сидящей в душе человека пессимистической стороны. Это бывает, как правило, при крушении надежд, национальном упадке, во времена реакции и разочарования, в момент разложения экономико-политического и социального положения, в то время, когда нет общих идеалов, когда отсуствуют божественные идеи, являющиеся опорой для ищущей и жаждущей души человека".72 Франгяновский анализ причин пессимизма весьма актуален и в наше время, ибо сегодняшная ситуация армянского общества тесно перекликается с общественной ситуацией начала 20-го столетия, когда в канун обретения национальной независимости происходили большие и, к сожалению, большей частью трагические изменения в структуре национального бытия. Экономический и моральный упадок, неоконченная война и внутриполитическая напряженность, нестабильность и угроза существованию и сегодня вызывают массовую фрустрацию, разочарование и как следствие всего этого – миграцию недопустимо большого масштаба.
Можно заключить, что широкое распространение в постсоветских обществе разочарования и пессимизма предстает как производная от конкретных условий общественно-политической и экономической ситуации, в которой мы все оказались в результате поражения СССР в “холодной войне” и начала нового передела мира. И дело тут не в пораженческой психологии отдельных людей, мы оказались неготовыми к переменам в первую очередь социально. Наше общество было неструктурированно в отношении проблем постсоветского периода.
Эта неструктурированность, а значит и неопределенность внутрисистемных социальных процессов все еще не преодолена, что делает постсоветское общество неспособным на адекватное редуцирование сложности воздействий со стороны системного окружения и зачастую приводит к функциональным противоречиям и разного рода конфликтам, начиная от конфликтов семейных до неразрешенного до сих пор Карабахского конфликта, который очень сильно влияет на распространение пессимистических представлений, ибо самая трагическая причина пессимизма – это угроза войны.
В таких условиях, конечно же, неудовлетворенность настоящим проявляется и как неуверенность в отношении грядущего будущего. Именно подобная социально-психологическая атмосфера переходного периода воцарилась и в армянском обществе в сфере общественного сознания. Она проявляется как в быту, так и в деятельности верхних эшелонов власти, быстро распространяясь посредством средств массовой коммуникации. В результате общество становится в политическом смысле все менее и менее сплоченным. Как следствие, формируется “авторитарная демократия” с присущим ей противоречивым характером динамики ценностей.
Аномия и эмиграция
Конечно же, можно отметить и множество других факторов, свидетельствующих о прямой обусловленности общественных настроений вообще, и всеобщего пессимизма в частности, конкретными социальными условиями жизни людей, но для выявления глубинных причин происходящих в основах общественного бытия преобразований необходимо перейти на другой, более глубокий и существенный уровень анализа. И тут мы вынуждены признать, что наша общественная жизнь характеризуется большой степенью дезорганизации регулирования общественных процессов официально установленными нормами и обнаруживает явные признаки аномичности, так как люди не могут законными, институциональными средствами достичь всеми признанных целей. В сегодняшнем, возникшем в результате спонтанного изменения культурных целей и институциональных средств их достижения трансфор-мирующемся обществе исключительно сильно акцентируются определенные цели без соответствующего акцептирования институциональных способов поведения.
Согласно американскому социологу Роберту Мертону, трактовавшему аномию как нормативный конфликт в культурной структуре общества, господст-вующая культура заключает в себе общепризнанные и взаимосвязанные цели, состоящие из определенных культурных целей, намерений и интересов, выступающих в качестве законных целей для общества.73 Эти цели варьируют по значимости, формируя к себе различное отношение и вызывая у людей определенную устремленность к их осуществлению. Культура содержит также призванные регулировать и контролировать поведение людей приемлемые для нее способы достижения этих целей. Эти два различных элемента культурной структуры взаимосвязаны, и при слишком большой степени их несогласованности возникает ситуация культурного диссенса, когда люди по-разному акцептируют цели и средства достижения этих целей. В результате конфликта между культурно предписанными всеобщими целями и средствами их достижения возникает аномия. С другой стороны, одна из главных социально-исторических причин аномии кроется в изменении прежней роли опосредствующих взаимоотношения государства и индивида-гражданина групп и институтов. Расшатывается прежняя фиксированная структура общественных целей, общепринятых норм и образцов поведения, люди лишаются чувства групповой солидарности, лежащие в основе их личностной идентификации общественные связи слабеют и нарушается действенность коллективного контроля, что ведет к росту в обществе разных видов девиантного поведения. Ведь последние имеют место там, где невысока социальная интеграция, где налицо несовершенство социализации людей, позволяющее им пренебрегать институциональными средствами реализации целей.
Именно этим объясняется поведение многих членов постсоветских обществ, которое очень часто подчиняется лишь соображениям технической целесообразности. Наиболее эффективные с технической точки зрения средства, узаконенные или же не узаконенные в культуре, обычно предпочитаются институционально предписанному поведению. Волей-неволей постсоветский человек включается в систему новых социальных отношений, при которых опосредующие его связь с обществом институты и группы утратили свои прежние регулятивные функции. Денежно-материальный успех стал общепризнанной главной целью, показателем личного благополучия. Возраста-ющая индивидуализация выводит людей из рамок коллективного морального контроля, обесценивает регулятивную роль старых социальных норм, стереотипов, традиций. Одним словом, старые нормы и ценности уже не соответствуют реальности, а новые только еще формируются и пока не утвердились в общественном сознании постсоветского общества. Вследствие этого человек оказывается социально дезориентированным, и стратегия его поведения принципиально неопределена.
Сегодня очень многие члены армянского общества также оказались в подобном неопределенном социальном положении, негативно относятся к призванным урегулировать общественную жизнь нормам и юридическим правилам, или же они по-просту безразличны к ним. Нарушение стабильности социальных позиций, распад их прежней иерархизации (например: стремительное понижение престижа профессии учителя и повышение уважения к торговцам) обусловили структурную неопределенность общественной системы. Потеря коллективной солидарности, личной идентификации с целым непосредственно влияют на рост отклоняющегося поведения, который наиболее отчетливо проявляется в социально-экономической сфере, где личный интерес, повальная приватизация и рыночные отношения почти полностью разрушили старые ограничения. И если война, наличие непосредственной общей угрозы в какой-то мере сплачивала нацию, то после ослабления этой угрозы социальная напряженность внутри общества усилилась. Принципальная инвариантность поведения резко возросла, а с нею вместе растет и постоянно воспроизводящая аномию нормативная и структурная неопределенность общества. У нас постоянно воспроизводится основное условие аномии – противоречие между потребностями и интересами граждан с одной стороны, и возможностями их удовлетворения с другой. Ситуация такова, что часто преследование собственной цели предполагает недостижение своих целей другими. Поэтому в общественной жизни, в условиях всеобщего напряжения постепенно воцаряется принцип личной выгоды и недоверия человека человеку. Этот принцип настоятельно требует отказаться от старых моральных установок, и в то же время еще не окрепла адекватная современному капиталистическому обществу новая мораль индивидуализма, которая наряду с пропагандой свободы индивидуального выбора требует от людей также и несение ответственности за этот выбор.
Все общества существенно различаются по степени интеграции народных обычаев, нравов и институциональных требований. То же самое справедливо и в отношении отдельных сфер общества. Особенно сильно аномия обнаруживает себя в экономической сфере армянского общества, в сфере наиболее затронутой кардинальными структурными переменами, ликвидировавшими традиционные ограничения. В этой сфере аномия действительно стала почти что “нормальным” явлением. И причина этого в том, что экономический уклад нашей жизни ускоренно меняется, а его морально-правовое урегулирование отстает. В результате противоречия между наличными потребностями, интересами и реальными возможностями их удовлетворения постоянно возникает аномия.
В армянском обществе появилось и прочно сохраняется сильное акцентирование богатства как основного символа успеха без соответствующего акцентирования законных способов его достижения. Честный труд обесценен. И не только отсутствие рабочих мест, но также мизерная, не стимулирующая производительный труд зарплата, которую получает большинство трудящихся армян препятствует становлению экономики, а значит и развитию всех сфер общественной жизни. Низкие доходы населения сильно ограничивают потребительский спрос, что препятствует становлению полноценного внутреннего рынка, а это, в свою очередь, мешает поднять на требуемый уровень промышленность республики и тем самым создать новые рабочие места. В итоге получается порочный круг.
В нашем постсоветском обществе распространились инновационное поведение, с одной стороны, и массовая миграция, с другой. В первом случае отсутствие необходимых для достижения целей легальных средств, огромная разница возможностей различных общественных групп привело к формированию неофициальных структур, полукриминальных кланов, которые нелегальными средствами преследуют свои цели, в результате чего образовался огромный дисбаланс между экономикой и теневой ее частью. Сформированная официальная структура общества не обеспечивает различным социальным группам принципиально одинаковую возможность легального достижения общепризнанных целей и тем самым вызывает приводящие к образованию нацеленных на них неофициальных структур функциональные нарушения социальной системы. Инновационная форма адаптации проявляется в виде использования неинституциональных средств для достижения богатства и власти. Причем возможности такого использования возрастают вместе с повышением уровня социальной иерархии и существенно отличаются по сферам деятельности людей. Отсюда – настойчивое стремление девиантов всеми возможными и невозможными способами проникнуть в предоставляющие такие возможности общественные и государственные структуры. В результате общественная жизнь отчасти криминализируется, государственные чиновники искусственно бюрократизируют систему государственного управления, насаждая и углубляя в ней прежний административно-командный тоталитарный стиль руководства, что препятствует демократической трансформации армянского общества вообще и развитию национальной экономики в частности.
Во втором случае имеет место массовая миграция населения со всеми вытекающими отсюда и затрагивающими все сферы общественной жизни последствиями.74 Очевидно, что она также в сильной мере мешает успешной реализации трансформационных задач, вызывает разрушительные изменения социальной структуры нашего общества и разваливает основу национальной экономики, научно-производственный потенциал страны. В условиях переживаемого нами глубокого общественного кризиса многие люди видят в мигра-ции единственный выход из ситуации. Миграция возникает как следствие политических и экономических перемен нашей жизни, сопрово-дившихся разрушительным землетрясением, Карабахской войной и экономической разрухой. Обусловленный блокадой транспортных путей и неэффективной приватизацией развал промышленности, инфляция и непомерно высокий уровень безработицы изменили социально-экономическое содержание общественной жизни. Оставшиеся без работы служащие и рабочие, ученые и инженерно-технические работники оказались на грани нищеты. Так происходит ”brain drain”, утечка интеллектуально-научных кадров из страны. Престиж созидательного интеллектуального труда упал, он не стимулируется и мало ценится на рынке труда. В результате наше общество теряет квалифицированных специалистов, убывает ее научный потенциал, республика постепенно лишается возможности научно-технического прогресса и социального развития, ибо без культурного и научного потенциала невозможно построить здоровое демократическое государство, без него мы обречены на отсталость и зависимость.
Произведенный анализ позволяет нам поставить диагноз нынешнего переходного состояния нашего общества. В структурном отношении оно неопределенно, а в культурном – аномично и характеризуется пессимизмом. Хаос пессимизма мешает людям занять в происходящем процессе трансформации активную гражданскую позицию.
Для решения этой проблемы требуется тесное сотрудничество властей и народа, и путь преодоления ситуации аномии – не в возврате к тоталитарному прошлому и реставрации прежних репрессивных институтов социального контроля, а в скорейшем развитии новых идеолого-воспитательных процессов, ориентирующих граждан на увязанные с идеей национального патрио-тизма ценности этики “морального индивидуализма”. Первоочередную роль в этом деле обязана сыграть наша интеллигенция, на которую возлагаются задачи культурной гармонизации и структурного сплочения армянского общества, успешного исполнения своей роли опосредствующего отношения народа и государства звена. Ведь именно культура может побудить индивидов к эмоциональному акцептированию совокупности культурно провозглашенных целей и предписанных методов достижения этих целей.
Веление времени – освободиться от пессимизма и задать обществу новую, оптимистическую культурную перспективу устойчивого развития, в рамках которой индивидуальные и общенациональные ценности должны быть тесно и гармонично объединены. Поэтому возникла необходимость создать новые опосредующие звенья, новые общественные организации, ассоциации и демократические учреждения, новые институты и группы, призванные связать граждан с государством, способные осуществлять функции морального контроля поведения своих членов и обеспечить их защиту перед лицом государства.
Социальная интеграция выражается в формах и посредством идентичности. И поэтому для утверждения социального порядка весьма важен процесс формирования „Мы“ – группы. Процесс этот не может более легитимироваться посредством старых традиций, его успех отныне тесно связан с включением (Inclusion) граждан государства в процессы управления своим государством. Для этого необходимо формирование новой идентичности армянина, идентичности гражданина независимого государства. Эта проблема является важнейшей государственной задачей, решение которой относится к приоритетным функциям нашего государства. Однако, развитие гражданского сектора в Армении происходит по большей части в форме стихийного гражданского активизма.75
Постсоветская свобода
Установлением и обоснованием необходимости государственной поддержки институтов гражданского общества суть вопроса не исчерпывается. Наш анализ был бы неполным без собственно философского анализа, который является завершением методологической цепочки восхождения от конкретного к абстрактному. Именно такой методологический подход положен в основу нашей статьи, следовательно, ее заключительная часть содержит философское осмысление проблем постсоветской идентичности.
Главная проблема тут заключается в том, что раньше советский человек чувствовал себя частичкой системы, своего рода "колесиком" целостного механизма, смысл деятельности которого заключался в аккуратном исполнении функций этого "колесика". Система обеспечивала необходимый для подобной деятельности минимум и придавала ей определенный смысл, смысл деятельности частички всемогущего целого. Сопутствующийся же социально-экономическим кризисом распад прежних тоталитарных связей вызвал парадоксальную ситуацию, когда человек, получив наконец-то свободу, не знает как с ней обходиться. Человек чувствует себя более защищенным и свободным в жесткой закрытой системе с малым выбором занятий и ограниченными возможностями социального продвижения, чем в условиях неопределенности, в подвижной открытой системе с универсальными нормами, формально равными для всех. Внезапно оказавшись вне отрицающих его личную свободу ограничений, постсоветский человек оказался перед своими собственными проблемами одиноким и беспомощным, лишенным чувства обеспеченности. Связывавшие его с обществом прежние звенья разрушены, новые пока не сформировались. Бессмысленность прошлого и безнадежность будущего рождают чувства изолированности, беспомощности и беспокойства, которые зачастую и не осознаются. На этой основе возникает известное еще по Фромму "бегство от свободы",76 когда человек, пытаясь преодолеть свою изолированность, отказывается от свободы, добровольно подчиняясь автори-тетам, впадая в конформизм, уходя от действительности и т. п. Имеет место своеобразное возвращение к растворению в целом, которое хотя бы и ценой отказа от свободы придало бы настоящему смысл.
Понятие свободы многомерно, нередуцируемо до его отдельных составляющих. Причину этого следует искать в самой сущности свободы, которая суть многоступенчатый процесс, заключающий в себя многообразие различных проявлений. Идентифицирующая сама себя с целым и лишенная частной определенности воля наделена негативной свободой тотального тождества, лишенной всяких творческих импульсов.77 "Эго" тоталитарного человека, а с ним вместе и присущее ему напряжение как бы усыплены наркозом, человек спокоен и доволен. Это "Эго" суть производная от выполняемой внутри системного целого функции, оно стандартизировано и не персонифицированно. Отсюда вытекает, что "незаменимых людей нет", незыблимы лишь система сама и идентифицируемые с нею личности. Свобода постсоветского человека также является по сути негативной, она далеко не полна. Человек освобожден от уз целого, неопределенно-всеобщего и выступает в качестве относительно автономной частной определенности, самолично решающей свои проблемы. Однако он не может в одиночку нести тяжелое бремя этой негативной "свободы от", ибо процесс индивидуализации немыслим вне контекста социаль-ности, а значит, предполагает две альтернативы развития: назад к растворению в тоталитарном целом или же вперед в направлении солидаризации и кооперации автономных личностей, что уже является предпосылкой перехода к следующей ступени свободы.
Человек постепенно включается в систему новых социальных отношений, присущих новой, позитивной ступени свободы, когда на первый план выступает активно самореализирующаяся в совместном с себе подобными свободном конструрировании неоднородного целого творческая личность. Целое образуется не тоталитарно, а благодаря самоопределенности, индивидуальности своих частей оно формируется децентрализированно, путем основанного на свободном выборе непосредственного коордирования горизонтальных структур. Как пишет Л. А. Абрамян, ссылаясь на Канта, ”свобода в положительном смысле состоит в способности к самопроизвольной (спонтанной) деятельности”.78 Свобода здесь не в избавлении от зависимостей (негативная свобода!), а в творении этих зависимостей. Это – творческая свобода, для которой важна не функция человека, а его творческий талант, любовное обаяние, дружеская верность и т. д. Каждый человек незаменим, нерастворим в целом. Он и социально защищен, и индивидуально свободен.
Конечно же, путь от негативной свободы к свободе позитивной являет собой переходный процесс. Если Запад в силу своих достижений вышел вперед на этом пути, то постсоветская часть мирового общества только-только вступает на него. На основе социологических исследований постсоветского армянского общества Г. Погосян констатирует: “Общественное сознание проявляет восприимчивость как к идеологии эгалитаризма, так и к новой идеологии либерализма. Ценность свободы входит в противоречие с ценностью социальной справедливости и благосостояния для всех”.79 Преодолевая это противоречие, люди должны освободиться как от тотальной разочарованности в своем прошлом, так и от целевой аномии будущего, должны помнить свое и ориентироваться на общечеловеческое. Только помня прошедшее, можно задавать цели будущему. Только реализуя цели, можно достичь свободы и создать благополучное и стабильное настоящее.
Задача не в том, чтобы освободить прошлое и будущее друг от друга, а в том, чтобы по-новому, творчески увязать их друг с другом, учитывая при этом текущие процессы глобализации и становления мирового общества. Необходимо понять, что не уничтожение и забвение, а именно преобразование унаследованной тоталитарной культуры в свете общечеловеческих ценностей мирового общества, подчинение своего прошлого императивам будущего этого общества создаст условия для преодоления трудностей эры негативной свободы и перехода к эре творческой свободы.
Человек свободен в своем бытие, если он принимает вызов времени и отвечает на него. Прошлое и будущее переплетаются в путеводные нити вечно преходящего настоящего. Распутать эти нити – означает лишиться жизненного ориентира и оказаться в положении привязанного к ситуации животного. Историческая память прошлого является основой направленной в будущее творческой фантазии, память и фантазия творят настоящее. Именно поэтому упомянутая выше неопределенность настоящего, постсоветского человека обусловливается либо забвением прошлого, либо бесцельностью будущего, а чаще всего и тем и другим одновременно. Тоталитарная реальность была зачастую ужасной, но без постоянного вопрошания о ней, без исторического осознания прошлых ошибок невозможно избежать подобных ошибок в настоящем. Коммунистический миф был утопией, но жить вообще без всякой устремленности в будущее человек не в состоянии, так как он нуждается в некотором смысловом постоянстве целесознания, которое трудно найти в вечно исчезающих моментах настоящего, так как иначе создается ситуация, когда “качественная жизнь заменяется количественным присутствием, реальная свобода «быть» – фикцией ее, создаваемой видимостью «иметь»”.80 Так что нельзя освободить прошлое от будущего и будущее от прошлого, ибо они соединены в настоящем и ради настоящего. Без них это настоящее не имело бы для людей смысл, что в силу определенности человека в качестве смыслополагающего существа невозможно.
Таким образом, сложный и мучительно трудный, неодназначный переход от негативной к позитивной ступени человеческой свободы составляет духовное содержание нашего времени конца тысячелетия. На пути этого перехода и достижения нового уровня развития человечество подчинено императивам единения и становления подлинной системы мирового общества. Каждая страна должна внести свой вклад в этот процесс формирования новой цивилизации, основанной на принципах мира и сотрудничества. Поэтому то, что происходит в одной части мирового пространства не может оставить равнодушным живущих в другой части. Трансформационные процессы, происходя-щие на постсоветском пространстве имеют мировую значимость и их успешное осуществление позволит нам выполнить свой долг как перед нашими потомками, так и перед всем человечеством. Наши трудности и проблемы прямо или косвенно влияют на ход мировых событих. Ситуация в мире настоятельно требует по-новому определить принципы государственного суверени-тета, правовой гарантированности и легитимности. Она ставит также проблемы личной и коллективной идентичности, решить которые прежним способом уже невозможно. Поэтому именно реализация базирующегося на общечеловеческих ценностях единства частного с общим выдвигается в настоящее время на первый план злободневных проблем современности. А так как каждый решает эту проблему по-своему, то и настоящее у всех свое, своеобразное.
Заключение
Итак, нужен новый, творческий подход. Надо переосмыслить собственную историю с точки зрения всеобщих задач. Когда наша деятельность будет строиться в глобальной кооперации с деятельностью других, когда индивидуальный успех станет частью успеха всеобщего и наоборот, когда люди начнут действовать в соответствии с пониманием, что они включены в глобальные сети взаимодействий, существуют не только для себя, но и друг для друга, что несмотря на разницу прошлого, будущее у всех одно общее, тогда можно будет говорить о наступлении времени позитивной свободы индивидуального творчества. Ведь творить – это значит превносить свое особенное в общее, соединять прошлое и будущее в настоящем.
Список литературы
Абрамян, Л. А. (2004): О кантовском понятии практического разума. Философские рефлексии (сборник научных статей под редакцией С. Г. Оганесяна), Ереван, сс. 3-15.
Берлин, Исайя (2001): Философия свободы. Европа, Москва: Новое литературное обозрение.
Dijkzeul, Dennis (2008): Towards a Framework for the Study of "No War, No Peace" Societies. Working Papers, No. 2, Swisspeace Publications.
Франгян, Ерванд (1911): Философ пессимизма. Ереван (на арм.).
Fromm, Erich (1941): Escape from Freedom. New York.
Ishkanian, Armine (2015): Self-Determined Citizens? New Forms of Civic Activism and Citizenship in Armenia. Europe-Asia Studies, 67 (8).
Marga, Andrei (1997): Grenzen und Dilemmata der Transformation: In: Nassehi, Armin (Hrsg.): Nation, Ethnie, Minderheit: Beitrage zur Aktualität ethnischer Konflikte; Georg Weber zum 65. Geburtstag. Köln; Weimar; Wien: Böhlau, S. 409-426.
Merton, Robert (1957): Social theory and social structure. New York.
Mkrtichyan, Artur (2005): Human Rights as an “Attractor” of Europeanization Processes of Transcaucasia “Neither War No Peace” Societies. In: Mihr, Anja/Mkrtichyan Artur/Mahler, Claudia/Toivanen, Reetta (eds.): Armenia: A Human Rights Perspective for Peace and Democracy. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, pp. 10-16.
Mkrtichyan, Artur (2007): Armenian Statehood and the Problems of European Integration as Reflected in School Education. In: Darieva, T. / Kaschuba, W. (eds.): Representations on the Margins of Europe. Frankfurt am Main, New York: Campus, pp. 190-204.
Mkrtichyan, Artur (2015): Towards the New Armenian Networks: Theoretical Considerations. In: Mkrtichyan, A. (ed.): Armenians around the World: Migration and Transnationality. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, pp. 11-20.
Mkrtichyan, Artur/Vermishyan, Harutyun/Balasanyan, Sona (2016): Independence Generation: Youth Study 2016 – Armenia. Yerevan: Friedrich Ebert Stiftung.
Погосян, Г. А. (2003): Армянское общество в трансформации. Ереван.
Самохвалова, В. И. (2001): Масскульт и маленький человек. Философские науки, No. 1, сс. 55-66.