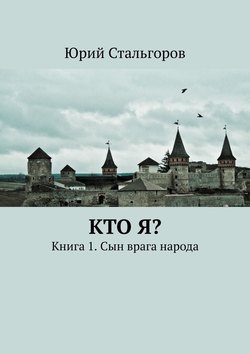Читать книгу Кто я? Книга 1. Сын врага народа - Юрий Михайлович Стальгоров - Страница 10
Часть I – Детство
Глава 2
ОглавлениеВначале мы с мамой поселились в учительской комнате в школе, но через несколько дней переехали жить к бригадиру колхоза. Голынка была одной из двух деревень, входивших в колхоз (не помню его названия), и в каждой деревне был свой бригадир. Нашим бригадиром был здоровый мужчина, белорус, лет 35. Разговаривал он только по-белорусски. Жил он с женой, детей у них не было. С ним жил еще его престарелый отец, который всё время лежал на печи. Когда бригадир приходил обедать, он всегда звал меня обедать вместе с ним. Впервые в моей жизни угостил меня жареными бычьими яйцами, мне понравилось.
Прожив у бригадира с неделю, мы поселились на квартиру к почтальону на другом конце деревни. Я там прожил до весны 1938 года. Дом почтальона был самый обычный, деревенский, состоящий из двух больших комнат. Одна комната называлась горницей, вторая – общая, она же кухня, она и столовая, там же спали хозяева. В горнице была часть печи без топки, на ней спал дедушка, самый старый член хозяйской семьи. Мы спали в горнице на кроватях.
Хозяин дома – сорокалетний мужчина, не был колхозником, так как работал на почте. У него было трое детей, достаточно взрослых. У них были свой огород, корова, несколько свиней и куры. Хозяева и их дети, как и все деревенские жители, ходили в лаптях, которые сами и плели. Хозяин считал лапти самой удобной обувью, даже удобнее армейских ботинок с обмотками.
Я спрашивал его:
– А как ходить в лаптях по болоту, ведь в Белоруссии много болот?
На это он мне отвечал:
– На болоте в лаптях очень хорошо, а на сухой земле – вообще милое дело! Легко, удобно, мягко.
Жители деревни сами драли лыко в лесу. Одежду изготавливали из домотканого полотна, для изготовления тканей выращивали лен и коноплю. Я видел однажды, как хозяева собрали ткацкий станок, и хозяйка ткала на нём льняное полотно метровой ширины.
Деревня Голынка располагается на правом берегу реки Березина. Зимой с высокого, достаточно крутого берега мы катались на санках на лед реки. Хорошими считались самодельные санки типа розвальни. Воду для питья и приготовления еды, как и для всех других нужд, жители деревни брали из реки.
В апреле 1938 года мама меня отвезла в Осиповичи к моим дедушке с бабушкой. Осиповичи – крупная железнодорожная станция, но в деревне Голынке железной дороги не было. Ближайшая к Голынке железнодорожная станция – станция Ясень, в 12 километрах, до нее мы шли пешком. Проходя через какую-то деревню, мы остановились возле колодца попить. На маме был меховой воротник – лиса. Чтобы воротник не мешал, мама сняла его и положила на крышку колодца. Затем она достала ведро воды, мы попили и ушли, забыв лису. Пройдя метров тридцать, мама вспомнила о лисе, и мы немедленно вернулись, но лисы на крышке колодца уже не было. Там стояла какая-то женщина, которая сказала маме, что, по-видимому, лису взяла другая женщина, которая только что отошла от колодца, и указала, где она живет. Мы с мамой подошли к дому этой женщины, и мама попросила ее, чтобы она вернула ей лису, но та сказала, что не брала. Тогда мы пошли в отделение милиции, которое в этом селе было. Зайдя в комнату какого-то милицейского чина, мы увидали, что он стоит на столе и снимает портрет Ежова, бывшего ранее народным комиссаром внутренних дел. Мама пошутила (может быть не к месту): «Это что, новый враг народа?». На что милицейский чин ответил: «Возможно, и так». К просьбе помочь вернуть маме лису он отнесся положительно. Он пошел с нами к дому женщины, которая подозревалась в краже лисы, и просто сказал ей, чтобы она вернула лису, не спрашивая, брала она ее или нет. Та вернула лису немедленно. Поблагодарив милиционера, мы пошли дальше, на станции Ясень сели на поезд и уехали в Осиповичи. Мама в тот же день вернулась в Голынку, а я остался в Осиповичах.
К этому времени дедушка с бабушкой жили в собственном построенном ими доме в Веселом переулке. В это же время у них гостила жена их старшего сына Володи Ксения Васильевна с двумя детьми – Эдуардом и Ольгой. Эдуард был 1936 года рождения, а Ольга родилась в октябре 1937 года. Через месяц они уехали к себе домой в Москву. Во второй половине августа 1938 года мама увезла меня обратно в Голынку.
В декабре 1938 года нас с мамой кто-то из деревенских отвез на санях на станцию Ясень. Мама меня посадила в вагон поезда и попросила проводника высадить меня на станции Осиповичи, где меня должны встретить бабушка или дедушка. Около полуночи проводник высадил меня в Осиповичах, а встречающих не оказалось. Лежал снег, но я был тепло одет. Я немного подождал и решил идти домой один. Вскоре, несмотря на то, что у меня были варежки, замерз палец на правой руке. Тогда я вспомнил, что говорил мне дядя Толя, папин младший брат. Он говорил мне, что замерзшие пальцы надо потереть снегом. Я помню, как снял варежку, натер снегом пальцы, после чего снова надел варежки. Руки согрелись. От вокзала до дома дедушки идти около двух километров. Как я прошел это расстояние ночью по улицам города, я совершенно не помню.
Мы жили втроем: я, бабушка и дедушка. Дом был небольшой, в нем была достаточно большая прихожая. Из прихожей была дверь в зал и в дедушкин кабинет, при входе была веранда. Прежде, чем зайти в дом, нужно было подняться на веранду, которая была почти вдоль всей стены. Если зайти в прихожую, слева – кабинет дедушки, прямо – зал. С правой стороны не было дверей. Получается, прихожая совмещалась с кухней. В кухне находилась передняя часть русской печи, напротив стоял стол, и было окно, выходящее на веранду. Правая стена была без окон. Проходя вдоль печи, попадаешь в спальню. Дверей в спальню также не было. В спальне было окно, с одной стороны стена глухая, с другой стороны перегородка с залом. Как бы при входе в спальню находился угол двух перегородок зала – одна перегородка от спальни, вторая от прихожей и кабинета дедушки. Спальня была очень маленькая. За печкой находилась кровать, на которой спали дедушка и бабушка. Я спал на печи, тоже как бы в спальне. Стелили мне какой-то матрас с простыней, была подушка, а укрывался я шубой из меха обезьяны. Я не хотел какого-то другого одеяла или покрывала, кроме этой шубы. Ее мой дедушка привез из Сибири, где служил в армии Колчака начальником штаба Второй сибирской дивизии. Дедушка работал, и дома его практически весь день не было, а бабушка была. Но я был предоставлен практически сам себе.
Этой зимой я далеко никуда не ходил. Я ходил только играть к соседям Василевским. У них был мальчик одних лет со мной, его папа работал машинистом на железной дороге. В их дворе старший Василевский устроил снежную горку для того, чтобы мы с его сыном с нее катались, поэтому я к Василевским приходил почти каждый день. Бабушка привыкла к тому, что я сам возвращаюсь от Василевских. Однажды я задержался и шел домой достаточно поздно, почему-то не смог открыть калитку и уснул возле калитки на снегу. Бабушка сама пошла за мной, нашла меня и принесла домой. Но я, по-видимому, переохладился и заболел. В Осиповичах, по-моему, не было в то время ни одного врача, но фельдшеры были, и бабушка вызвала домой фельдшера. Он сказал, что у меня двустороннее крупозное воспаление легких, и прописал какое-то порошковое лекарство. Через несколько дней он снова пришел посмотреть, как я себя чувствую, а я чувствовал себя плохо – была высокая температура, я часто бредил, а через какое-то время совсем ослаб. Потом температура упала, но я не хотел ни есть, ни пить. Вызванный фельдшер сказал, что у меня упадок сил, и сделать он больше ничего не может. Бабушка перепугалась, потому что я, можно сказать, умирал, поскольку ничего не хотел есть и не ел. Каким-то образом бабушка вызвала мою маму, а я, пока мама еще не приехала, попросил у бабушки яблок. Однако зимой яблок найти было в Осиповичах практически не возможно. Может быть, у кого-то и были, но как искать? А у бабушки с дедушкой яблони были молодые и не еще плодоносили. Приехала мама и тотчас же нашла яблоки. Она пошла на железнодорожный вокзал, зашла в вагон-ресторан какого-то проходящего московского поезда и там купила пару яблок. Когда она принесла их, я сразу же съел одно и стал жить и поправляться.
Уже после моего выздоровления ранней весной 1939 года я нашел в доме коробку с патронами малокалиберной винтовки – это дядя Толя принес их из своей снайперской школы. И вот я решил подшутить над своей бабушкой. Как-то она растопила печь, чтобы что-то сварить. Я потихоньку подошел и бросил в костер горящей печи пачку патронов, а сам ушел в спальню и залез на печь. Через какое-то время патроны начали рваться, разлетались пули и гильзы. Бабушка, стоявшая у припечка, тотчас же упала на пол, чтобы уберечься от пуль, и лежала, пока не закончились эти «выстрелы». Она поняла, в чем дело, и спросила меня, зачем я это сделал. Я сказал, что хотел над ней пошутить. Она ответила, что шутка глупая, что она могла погибнуть, и я бы остался без бабушки. Тем не менее, она меня не била и даже не ругала. И вообще, сколько бы я у них ни жил, она меня никогда не била и никогда не ругала. И дедушка тоже.
Наступило лето, я познакомился с соседскими мальчишками. Прямо напротив нас жил мой одногодок – мальчик, с которым мы озорничали. Главное озорство у нас было перебегать дорогу перед проезжающими автомобилями, причем мы старались, чтобы для шоферов это было полной неожиданностью. Машин было немного, проезжали они через наш переулок редко, так как дорога в переулке не была мощеной. Там лежал обыкновенный песок, и машины ехали не так уж быстро и иногда даже буксовали. Тем не менее, мы кидались почти под колеса машин. Это кончилось тем, что однажды этот соседский мальчик попал под автомобиль. Он получил какую-то черепно-мозговую травму и сделался ненормальным, в 1941 году немцы его застрелили как сумасшедшего.
Еще я подружился с мальчиком, который жил сразу за Василевскими. Семья Василевских жила в большом одноэтажном двух- или трехквартирном доме, принадлежащем железной дороге. Вдоль переулка за этим домом жил мой новый знакомый мальчик. У них была не то кирпичная, не то саманная небольшая хата, без разделения на комнаты. Детей было двое: мальчик – мой одногодок и его сестра Лида. Ей было лет 12—13. Их мама работала учительницей, а папа был военным летчиком, служил в бомбардировочной авиации, самолеты которой располагались в Быхове под Могилевом. Это был крупный, здоровый, веселый молодой мужчина. Я его видел весной, когда он копал на своем огороде землю под посадку картофеля. Он не копал так, как копают обычные люди, а крутил лопату вокруг совей оси. При этом, когда она находилась в удобном положении, чтобы копать, он вдавливал ее ногой в землю. Это производило на меня такое впечатление, как будто копает какой-то автомат, а не человек.
Весной 1939 года Лида каким-то образом загнала с вою ступню швейную иголку, и ей делали операцию, довольно обширную. Она показывала мне свою ногу и операционный шов, заполненный каким-то порошком и потом завязанный бинтом. Вскоре она поправилась, ее рана зажила, и она несколько раз водила нас в кино. Впервые в моей жизни я смотрел кинофильмы. Первый кинофильм был детский, это был звуковой кинофильм «Доктор Айболит». Детский билет стоил 5 копеек. Еще мы смотрели несколько немых детских кинофильмов. Это было что-то вроде мультфильмов, с музыкой, но без слов. Еще она нас привела на кинофильм для взрослых, здесь билет стоил 15 копеек, невзирая на то, что мы дети. Я смотрел первый в своей жизни кинофильм для взрослых, это был «Цирк». По-моему, был еще немой кинофильм «Броненосец Потёмкин».
В декабре 1939 года к нам заехал ветврач, который сидел в тюрьме с моим папой. Он ехал к себе домой из тюрьмы г. Орши и сказал, что Верховный суд Белоруссии отменил решение суда, по которому им дали одному 15, а второму 20 лет ИТЛ, и направил их дело на доследование. Следователь прокуратуры, к которому было направлено это дело, закрыл его за неимением состава преступления и освободил их из-под ареста. Поэтому он едет домой. Но Миша Стальгоров сильно пострадал от пыток и лежит в тюремной больнице. Начальник тюрьмы сказал, что он его не выпустит, несмотря на то, что тот оправдан и подлежит освобождению. В январе 1940 года родители моего папы получили письмо от медсестры тюремной больницы г. Орши. Она писала, что Миша Стальгоров умер в тюремной больнице. Никакого официального документа об оправдании (реабилитации) никто не прислал.
Весной 1940 года я вернулся из Осиповичей к маме в Голынку, к этому времени она вышла замуж за Верниковского Михаила Викторовича и жила в его квартире. Он работал в местном колхозе кузнецом, а также являлся старшим лейтенантом запаса. Его уволили из армии якобы из-за пьянства, но я ни разу не видел, чтобы он выпивал. Его кузница находилась в другой деревне, примерно в трех километрах от Голынки. Его предыдущая жена тоже была учительницей, она умерла от туберкулёза (на её место и прислали маму). У Верниковского было двое детей: дочь Валя 1930 г.р. и сын Володя 1935 г. р. К первому мая 1940 года из Рогачева привезли моего брата Игоря, и мы с Верниковскими стали жить одной семьей.
Квартира была в большом доме. Полдома занимало правление колхоза, полдома мы. Квартира была достаточно большая и состояла из кухни и двух комнат. Стояли кровати, стол, был подпол, куда однажды упала мама. Она часто ругалась со своим новым мужем, несмотря на то, что он был добродушным. Маме оказалась не по силам такая большая семья.
Весной 1941 года пропал учитель – 18-летний парень, которого прислали на работу к нам в школу после окончания им педагогического училища на смену моей маме, так как мама ушла в отпуск по беременности. Дело оказалось нешуточным. Никто не знал, где учитель, в том числе и директор школы. По деревне поползли слухи, что, мол, Стальгорова и Верниковский убили его, потому что она «ведьма», «жена врага народа», и пропавшего последний раз видели заходящим в их дом. Начали искать труп. Отчима и мою беременную маму арестовали и увезли в Осиповичи. Я по просьбе отчима пошел к его родственникам в соседнюю деревню попросить, чтобы кто-то из них присмотрел за нами – детьми. Труп учителя стали искать в реке Березине, считая, что Стальгорова и Верниковский выбросили его в реку. Искали двое суток, а на третьи сутки появился живой и невредимый учитель. Оказалось, что ему перед отправлением в Голынку не дали положенного после окончания училища отпуска, и он уехал самовольно, не сказав директору школы, к своим родителям далеко от Голынки, в другую область Белоруссии. Маму и отчима сразу отпустили домой.
В 1940—1941 учебном году я учился в первом классе. Еще до первого класса я умел читать по-русски и по-белорусски, считать и выполнять арифметические действия в пределах тысячи. Правда, я не умел как следует писать, тем более по-белорусски. На занятиях я скучал оттого, что мне нечего было делать. Я ходил на уроках по классу, не слушался учителя, когда он просил сесть за парту. Учитель много раз меня пересаживал то к мальчикам, то к девочкам, но это не помогало. Когда он сажал меня за первую парту, я наклонялся, чтобы заглянуть в учительский журнал, и кричал на весь класс, кому какие ставят оценки. Тогда не пользовались балльной системой, а оценки были такими: «вельмi дрэнна» («очень плохо»), «дрэнна» («плохо»), «пасрэдна» («посредственно»), «добра» («хорошо») и «выдатна» («отлично»). Кстати, я за то, чтобы и в наше время оценку «тройка» называть не «удовлетворительно», а «посредственно», ведь между этими словами колоссальная разница. Так я окончил первый класс, и учитель честно поставил мне в ведомости за чтение «выдатна», за письмо «выдатна», по другим предметам тоже «выдатна», а за поведение «дрэнна».